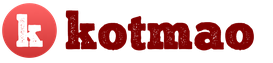В книжном магазине "Москва" на Тверской улице был торжественно открыт памятник Борису Акунину. Накануне этих событий с юбиляром побеседовал наш корреспондент.
Российская газета | По нынешним временам Чхартишвили совсем молодой писатель. А сколько лет Акунину? Кто из вас старший брат и кто младший?
Григорий Чхартишвили | По-моему, мы не братья. Тут другие отношения, вроде как у хозяина и собаки. Ему 50, ей 9. Он ее любит, но знает, что она умрет раньше, собачий век короче человечьего. Будет жалко, но можно завести другую.
РГ | В начале пути Борис Акунин представлялся случайной и даже внутрисемейной литературной игрой. Если не ошибаюсь, в одном из интервью вы сказали, что роман "Азазель" был написан для жены, которая любит детективы, и не был изначально предназначен для публикации. Как чувствует себя сегодняшний Борис Акунин в писательской среде?
Чхартишвили | Насчет писательской среды не знаю, я ведь в ней не вращаюсь. За исключением тех литераторов, с кем дружил и до Акунина. "Азазель" я писал, конечно, не для внутрисемейного употребления - рассчитывал и на публикацию, и на успех. Но такого масштаба, чего душой кривить, не ожидал. Тут не все розы, есть и тернии.
Когда пишешь книжку, которая выйдет первым тиражом 300 тысяч и которую в конечном итоге, после всех переизданий прочтет два или три миллиона человек, поневоле бьешь себя по рукам: этого нельзя, и этого нельзя, а вот это получилось неплохо, но придется вычеркнуть. Потому что автор массовой литературы - существо куда менее свободное, чем писатель, пишущий для жены, друзей и немногих ценителей. Это меня временами ужасно раздражает. Из-за этого я и оставляю за собой возможность иногда выступать в качестве Чхартишвили, который пишет как Бог на душу положит и не задумывается о школьниках, обидчивых меньшинствах и людях с неустойчивой психикой.
РГ | Известен ли совокупный мировой тираж книг Бориса Акунина? В какой стране кроме России он самый большой?
Чхартишвили | В России я то ли пересек 15-миллионный рубеж, то ли вот-вот пересеку - цифра совершенно объективная, ибо подсчитана по бухгалтерским отчетам издательств. Про заграницу сказать невозможно, потому что есть переводы на 35, что ли, языков, и мало кто из агентов дает статистику продаж. Сногсшибательными успехами нигде похвастать не могу, но есть 5-6 стран, где счет идет уже на сотни тысяч. Для писателя из никому не интересной (на сегодняшний день) страны это неплохо.
РГ | Вы признаете, что Фандорин - это уже не игра, а существенная часть массового сознания со всей вытекающей отсюда ответственностью писателя? В столкновении классики и масскульта - "кто кого"?
Чхартишвили | Ответственность признаю - куда деваться. Стараюсь, чтобы она все же не слишком связывала мне руки. А столкновение классики и масскульта в русском варианте, по-моему, может дать очень хороший результат. Классика-то никуда не денется. Достоевский с Чеховыми что написали, то написали - никто не испортит и не отберет. А вот массовая культура, как организм живой и вечно меняющийся, подпитавшись отсветом "высокой культуры", может существенно облагородиться. Посмотрите, какой великолепный миф построили американцы на очень хилом материале: какие-то пастухи коров, туземцы с томагавками, грабители поездов. А у нас в культуре и истории чего только нет!
РГ | Последний роман "Ф. М." не оставляет сомнений, что игра в классику будет продолжаться.
Чхартишвили | Пока у меня другие планы, которые любопытно было бы осуществить. С римейками они не связаны. Разве что пьеску какую-нибудь сочиню, чтоб мозги отдохнули... Что-нибудь вроде "Маленьких трагедий".
РГ | Как уживаются Чхартишвили - филолог и писатель? Не конфликтуют?
Чхартишвили | Я с большим удовольствием и облегчением расстригся из филологов. Это сброшенная чешуя, к ней возврата нет. Как я уже сказал, конфликтуют автор-эгоист (Чхартишвили) и автор-общественник (Акунин). Мне, например, ужасно хочется засесть годика на два, на три за какое-нибудь неспешное сочинение - не для читателей, а для самого себя. Есть некоторые головоломные проблемы, в которых следует разобраться, как я это сделал когда-то с темой суицида. Но это будет нечестно по отношению к моим персонажам, издателям да и (прошу прощения за нескромность) читателям.
РГ | Постепенно Борис Акунин становится русским литературным "брендом" за рубежом. Что вы думаете о мировой популярности и не возникала ли у вас мысль переехать в Европу? Многие звезды от искусства живут за границей. Или ответите, как Высоцкий, "не надейтесь"?
Чхартишвили | Я бы с удовольствием уезжал за границу, в какое-нибудь тихое захолустье, на время, когда пишу очередную книгу. Здесь слишком многое отвлекает и выбивает из колеи. Но главная моя жизнь и подпитка все равно здесь. По своей воле я не уеду, это точно. Ну, если, не приведи Господь, какая-нибудь разновидность фашизма новообразуется, тогда конечно.
РГ | На презентации вы сказали, что хотели бы видеть экранизацию "Ф. М." в двух форматах: обычное кино и мультипликация. Вообще проект "Борис Акунин" все больше становится не столько литературным, сколько технологичным. Вы считаете, что литература как журналы и книгоиздание исчерпала свои ресурсы и нуждается в свежем технологическим прорыве?
Чхартишвили | Да ничего она не исчерпала. По-моему, Интернет только дал писательству и чтению новый толчок. Вообще мультимедиальность, гипертекст, интерактивность необычайно расширяют возможности писателя. Я за литературу и чтение не боюсь. Вот бумажная книга, наверное, скоро станет раритетом - издательства перейдут на электронные носители. Ну и хорошо. Нечего деревья на бумагу переводить.
РГ | "Писатель и самоубийство", "Кладбища". Этот ваш интерес к смерти - просто исследовательское любопытство или попытка решить какие-то свои духовно-мировоззренческие проблемы?
Чхартишвили | Свои, свои. Я уже говорил об этом: Чхартишвили - автор эгоистичный, он может существовать и без читателей. В отличие от Акунина.
РГ | Сергей Лукьяненко недавно намекнул, что собирается делать коллективный проект с молодыми писателями - "детское фэнтези". А у вас не возникают подобные идеи? Или вы принципиальный одиночка?
Чхартишвили | Была у меня аналогичная идея: помочь новым авторам запуститься. Допустим, я даю сюжет, соавтор пишет текст. На обложке два имени, гонорар пополам и т.п. Так сказать, обзавестись командой единомысленников (но разностильников). Пока не доходят руки. Как и до другой давней идеи: выступить тандемом с кем-нибудь из состоявшихся писателей, кто пишет совсем-совсем по-другому. Интересно, что получилось бы.
РГ | Какая первая мысль чаще всего посещает вас, когда вы просыпаетесь утром?
Чхартишвили | Приятная: сейчас встану и сяду за компьютер. Или: сейчас возьму блокнот и пойду на прогулку - придумывать какую-нибудь сюжетную закавыку.
Павел Чхартишвили (1948) - родился в Москве. Окончил Московский техникум автоматики и телемеханики и исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал механиком-прибористом, техником-конструктором, статистиком, учителем истории. 40 лет работал в Государственном архиве РФ, почётный работник этого архива. Печатался в журналах «Вопросы истории», «Преподавание истории в школе», «День и ночь», «Север». Живет в Москве. В «Урале» печатается впервые.
Мантейфель никого не обидел
Рассказ
Я помню сентябрь 1962 года: 150-летие кровавой Бородинской битвы, премьера удалого и весёлого водевиля «Гусарская баллада». Классный руководитель нашего восьмого «б» на специально заказанном автобусе прямо от школы повёз нас на Бородинское поле. Когда ехали обратно, ребята духарились, повеяло воздухом свободы, и автобус грянул:
Вы слышите: грохочут сапоги,
И птицы ошалелые летят,
И женщины глядят из-под руки -
Вы поняли, куда они глядят.
Учитель метался по проходу:
- Прекратить!
А мы допели. И я начал новую:
…Исчезнут все семейные заботы.
Не надо ни зарплаты, ни работы…
Маму вызвали в школу. Вернувшись, она спросила:
- Ты пел гадкие песни?
- Я пел «Песню американского солдата».
Меня оставили в покое. Булата Шалвовича - вряд ли.
А теперь перейдём к нашему повествованию. Его главный герой - Олег Владиславович Кудряков. Но сначала о его дедушке. Весной 1941-го Савелий Данилович Кудряков был заместителем наркома орудий и миномётов Банникова. НКВД забрал и наркома, и всех заместителей. Но в июле того же года им вдруг вернули форму, документы и награды, привезли в Кремль, усадили в приёмной Сталина. Вождь вышел к ним и сказал:
- Извините, товарищи, мы ошиблись.
После этого Савелий Данилович четыре года мотался по «ящикам», спал по пять часов. А через пятнадцать лет после Победы стал персональным пенсионером союзного значения, получал к 1 Мая и 7 Ноября по госцене двух цыплят: по линии военкомата и по партийной линии. Ну так вот. Его внук Олег родился как раз 7 сентября 1962 года, в юбилей Бородина. Это наложило отпечаток на его дни рождения и интересы. Дед обожал внука, Олег обожал дедушку. Летом 1974 года Савелий Данилович повёз внука в Кишинёв. Поселились в гостинице Молдавского республиканского потребсоюза. Пошли гулять. Олег увидел в киоске книгу «Кутузов».
- Дедуля, купи.
Но продавец объяснил, что книга на кириллице, но на молдавском языке.
Сходили в музей Пушкина. Там было ещё три посетителя. Потом в музей Котовского и Лазо. В этот день туда не привели ни солдат, ни пионеров. Старушка смотрительница обрадовалась, что кто-то пришёл, ходила за генералом из зала в зал и зажигала ему свет. Савелий Данилович дисциплинированно изучил экспозицию, ничего не упустил. Потом выдал внуку рубль на разгул и ушёл в гостиницу отдохнуть. Олег отправился прожигать жизнь. Увидел киноафишу: «Шинель». Подумал: про войну. Купил билет, послонялся полчаса и явился смотреть интересное кино. Тётя в дверях его огорчила:
- Мальчик! Кроме тебя, никто не купил билет.
Ему вернули двадцать копеек.
Прошло ещё шесть лет. Олег получил аттестат зрелости и решил поступать на исторический факультет. Дед сказал:
- Что это за профессия: историк? Я понимаю: быть инженером и знать историю. Охота тебе пять лет враньё изучать?
- Так уж все и врут, - усомнился внук.
Его мать работала в бухгалтерии. Она, естественно, знала, что сын увлекается 1812 годом. Только посетовала:
- Никто не хочет быть бухгалтером.
В итоге Олег поступил учиться на инженера-электрика. Вечеринки, дискотеки. Стройотряд. Разбирали сгоревший коровник. У девушки взгляд улыбчивый, с неразгаданной грустинкой. Радость в сердце. Ночь. Небо светлеет тихо-тихо. Всё, чего хотелось, всё, что произошло, - в первых рассветных бликах, в музыке, лившейся с неба. Получил диплом, распределили в НИИ. В девяносто пятом году познакомился в гостях с Ксенией. Она подожгла его жизнь, как поджигают газ. Только не потуши, Ксюша. Не потушила. Женился, усыновил её шестилетнего Илюшу. До появления Олега Владиславовича Илюше было очень хорошо. Но когда в его с мамой жизнь ворвался этот неизвестно зачем понадобившийся дядя, ребёнок не принял его своим детским сердечком. Родного отца мальчик не знал. Но отчим не мог заменить отца, отчим не был родным, это был чужак. Впрочем, Олег Владиславович ни разу не обидел пасынка. В установленный природой срок после свадьбы появилась на свет Лиза, сестрёнка Илюши.
Страна пережила дефолт и две чеченские войны. Олег Владиславович помнил из курса политэкономии о необходимости планирования с резервами, и это помогало (не всегда) семье сводить концы с концами. Не забыл он и о спирали, по которой, как учил незнакомый с марксизмом немец Гегель, развивается общество. Олег Владиславович сказал Ксении: сначала у нас был тезис - социализм, теперь наступил антитезис - капитализм, ну а после будет синтез - социалистический капитализм, который вберёт в себя всё лучшее из того и другого. Жена уточнила: или всё худшее.
Дети росли. Ксюша любила их и мужа, которого не волновали другие женщины. Как-то, собираясь на работу, Олег Владиславович услышал по радио, кто-то читал:
…Моя жизнь не была пустой,
Но была обделённой лаской.
Он не понял: как не была пустой? без любви? Его переполняла любовь. Уже двенадцать лет каждый вечер он нёсся к Ксюше. Она была уютом, она была теплом, от которого таяли стрессы и неприятности.
Ради нее:
И стоило жить,
И работать стоило.
Это уже другой поэт, какой - он не помнил.
Кудрякова увлекала электроника, а также генерал-фельдмаршал, князь Михаил Богданович Барклай де Толли. Олег Владиславович собирал всё, что мог, о Барклае и вырос в уникального специалиста. У него взяли интервью «Московская газета» и канал «Двуглавый орёл». Он отредактировал монографию доктора исторических наук и выступил с трибуны конференции перед доцентами и профессорами. А вечерком любил посмотреть по телику что-нибудь историческое. Как-то передавали спектакль «Гамлет» знаменитого Театра на Солянке. Кудряков уселся в кресло. Гильденстерн во фраке музицировал на флейте. Гертруда и Офелия резались в карты, попивая «Шате-кардюс». Приехавшие бродячие футболисты играли на сцене со сборной Эльсинора, тренером которой был Горацио, а вратарём его друг Принц Датский, отразивший пенальти. По совету канцлера Полония король Клавдий сменил шикарную гамбургскую рессорную карету на скромную отечественную и заставил высших обитателей замка Кронберг поступить так же, после чего Гамлет сказал Розенкранцу, что Дания - тюрьма. Тот ответил: «Совершенная правда, милорд». Но для принца был луч света в тёмном королевстве: Офелия с прекрасной белой грудью. Свои вздохи он заключил в стихотворение и послал в «Молодой копенгагенец», который послушно напечатал его на первой странице. Гамлет подарил экземпляр идолу своей души, а также матери, Горацио, Лаэрту, Фортинбрасу, Вольтиманду, Корнелию, офицерам Бернардо и Марцеллу и солдату Франсиско. Тем временем призрак Гамлетова отца рассказал принцу, что канцлер представил Клавдию проект королевского указа о домашнем аресте двух Могильщиков за участие в пикете против повышения пенсионного возраста. По просьбе принца Клавдий отправил слишком инициативного Полония на корабле в Англию с длительным рабочим визитом. В Лондоне тот выбрал свободу и стал невозвращенцем. Офелия поплакала, но не утопилась. В эпилоге она целовалась с Гамлетом, принц и Лаэрт пили брудершафт. Ничего, подытожил Олег Владиславович, но лучше бы про войну с Наполеоном, можно в том же стиле.
В общем, текла обычная жизнь. Всё у Кудряковых шло относительно неплохо, во всяком случае, бывает намного хуже. Супруги были счастливы. Ксения Игнатьевна мечтала, чтобы Илюша опять был маленьким. И тут тихий домашний мир был потревожен листком бумаги - повесткой Илье из военкомата.
Олегу Владиславовичу не довелось служить в армии из-за плоскостопия. Он со школьных лет вкладывал в обувь супинаторы. Отчим произнёс наставление пасынку:
- Станешь российским солдатом, повидаешь другие края, найдёшь друзей, возмужаешь.
Ксения Игнатьевна не воодушевилась открывшимися перспективами:
- Потеряет время и научится материться.
Олег Владиславович промолчал. Он не переносил нецензурную брань. А Илья сказал:
- Мне всё равно. Служить так служить. Соньку жалко. Расстроится.
Соню семь лет назад привели в школу, в которой учился в пятом классе Илья, её посадили рядом с ним. Они изредка ссорились, и Илья говорил соседке:
- Кукла!
- Дурак, - отвечала девочка.
- Кукла! - повторял Илья и закономерно получал снова:
- Дурак!
В восьмом классе Илья наконец заметил, что Соня не кукла, а симпатичная девчонка; симпатичная девчонка, в свою очередь, обнаружила, что мальчик не глуп и с ним весело. Если от любви до ненависти один шаг, то от ненависти до дружбы, а там и до первого в жизни чувства расстояние в детстве ещё короче.
Олег Владиславович видел, что дело у пасынка идёт к слишком ранней женитьбе. Соня была хорошей девочкой, но всему своё время. Сам он женился, как легко можно подсчитать, в тридцать три года. Олег Владиславович теперь надеялся, что во время предстоящей разлуки Илья и Соня «проверят свои чувства» (хотя чувствам было уже года три, ну, два). С этой мыслью он поехал на работу. Он по-прежнему работал в том НИИ, но уже главным научным сотрудником. Начальником отдела последние полтора года был доктор технических наук Павел Родионович Мантейфель. Вскоре после его назначения личный состав повторял считалку, придуманную ведущим научным сотрудником Львом Сосниным:
Вышел Пашка из отдела.
Как текучка надоела!
Буду резать, буду бить,
Только не руководить.
Мантейфелю понравилось, он даже похвалился директору института Иллариону Евдокимовичу Супонину, а когда узнал, кто автор, сказал в коридоре Льву, что без ответа тот не останется. Впрочем, репрессий не последовало, и Соснин, слегка побаиваясь, терпеливо ждал обещанного ответа.
Однажды Соснин дал Олегу Владиславовичу новеллу Бальзака «Полковник Шабер». Этот французский полковник был тяжело ранен в сражении с нашими при Прейсиш-Эйлау в 1807 году. Через полгода Лев спросил:
- Когда же ты прочитаешь?
- Не хочу забивать голову художественной литературой.
- Ладно, не забивай. Отдай книжку.
- Нет. Я прочитаю.
Прошёл ещё месяц. Наконец Кудряков вернул новеллу, сказав:
- Там вранья! Не мог полковник быть графом Империи.
- Плохая книжка, ничего про Барклая, - съязвил Соснин. Спросил:
- Барклай участвовал в этом сражении?
- Да, в звании генерал-майора, и был ранен пулей в правую руку с переломом кости.
Тогда увлекательную беседу, шедшую, как всегда, в рабочее время, прервал вошедший зануда Мантейфель, который опять стал звать Олега Владиславовича в аспирантуру. Кудрякову было некогда, да и лень сдавать разные там минимумы. Если бы только диссертацию написать - другое дело.
Вспоминая это, Олег Владиславович подошёл к проходной. У вертушки сидела новенькая девушка-милиционер. Перед ней висело объявление «Предъявляйте пропуск в развёрнутом виде». Кудряков почувствовал себя молодым и остроумным.
- Предъявляю пропуск в развёрнутом виде.
- Хорошо, - ответила страж порядка без тени улыбки.
Кудряков посмотрел на висевшее перед ней ещё одно объявление: «Разыскивается», с чьей-то фоторожей.
- Девушка, вы всех сличаете?
- Всех, - сказала она, уже с ноткой раздражения.
Но Олег Владиславович нотки не заметил. Его несло.
- А я похож?
- Похожи. Вы задержаны.
Мать честная! Шутит девка или решила проучить старого козла? Идти дальше не решался. Стоять было глупо. Медленно двинулся. Обошлось. Не пальнула в спину.
В лаборатории мигали индикаторы, болтали коллеги, настроение у всех было повышенное. Лаборатория завершила важную разработку, на которую ушло четыре года. Электронное устройство успешно выдержало испытания. Завтра все, и в первую очередь заведующая лабораторией тридцатилетняя Ассоль Гаджиева, должны были получить внушительную премию, что было весьма кстати, так как все, кроме, пожалуй, восемнадцатилетнего лаборанта Чижикова, жили от получки до получки. Лев Соснин и младший научный сотрудник Марина Конюшкина не любили заведующую. Лев считал, что Ассоль слишком воображает, защитившись, хотя в институте, куда ни плюнь, попадёшь в кандидата, а если повезёт, то и в доктора. Конюшкина же злилась, что заведующая её не повысила, когда была такая возможность. Кроме того, Марина недолюбливала «чёрных», и это возмущало Кудрякова. К тому же, по его мнению, с работой Ассоль справлялась, а недостатки есть у всех. Гаджиева однажды наедине с Олегом Владиславовичем посетовала на такое отношение к себе.
Кудряков постарался её успокоить:
- На радио был Гайдар. Ведущая ему: «Егор Тимурович! А вас не любят». Гайдар: «Народ не обязан любить своих правителей».
Ассоль тогда рассмеялась.
Олег Владиславович никогда не спорил с ней. Он предпочитал кивать и делать по-своему.
Только он начал работать, помешал Соснин:
- Олег! Давно хочу спросить. Почему ты выбрал такого неинтересного полководца? Занимался бы Багратионом.
Кудряков в ответ пошёл с козырей:
- Почитай Пушкина.
Гроза двенадцатого года
Настала - кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?
Хто з любовью не знаеться,
Той горя не знае.
Песня как раз про его, Льва, жизнь. Двенадцать лет назад пришёл к Тоне, бывшей жене: соскучился по дочке. Принёс мандарины. Бывшая тёща встряла:
- Эллочке нельзя мандарины.
- Вас не спрашивают, - вежливо ответил он.
Начался скандал. Лев тогда подумал, что Бог дарит женщинам жизнь, но не всех их наделяет умом, и дуры отравляют существование остальным людям. Он сказал тёще:
- Это ты разрушила семью.
Тоня молчала, потому что это была правда. Он смотрел на Тоню. Она была раньше таким цветочком - он обалдевал, и вот родила, прошли годы, она осталась привлекательной, но свежесть ушла. На себя посмотри, подумал он о себе. А тёща продолжала говорить обидные слова. Ему захотелось зарезать тёщу и сесть в тюрьму. Он поцеловал дочку и ушёл.
Соснин занялся электрической схемой. Конюшкина подбирала по справочнику подходящий кабель. Чижиков принёс электромотор и подключал его.
Кудряков смотрел на дрожащие импульсы, светящиеся на экране осциллографа.
Ему вспомнилось стихотворение без подписи в альбоме московской красавицы графини Е.В. Апраксиной, урождённой княжны Голицыной:
В 1811 году
В Европе властвует кумир.
Непрочен и не долог мир.
Ну что ж. Российские сердца
Готовы биться до конца
И все невзгоды перенесть.
Храним страны Российской честь.
Война одну оставит страсть:
В Святом бою за Веру пасть.
Небесный Марс поможет нам,
И иноземным племенам
Их участь будет не мила.
То будут славные дела.
На экране осциллографа ему на секунду почудился таинственный профиль благородного прибалтийского немца шотландского происхождения. Занялся работой.
Конюшкина закрыла справочник и спросила:
- Филипп! У тебя девушка есть?
У Чижикова ещё не было подружки, и он стыдился этого, как ему казалось, своего недостатка.
- У кого её нет, - уклончиво ответил он
- У меня вот нет, - сказал Лев.
- У тебя по другой причине, - подключился Олег Владиславович. - Тебе скоро на пенсию.
Соснин принадлежал к людям, которые скорее простят совершённую по отношению к ним подлость, чем насмешку. Но сейчас шутка не была злой.
Илья на бульваре поджидал Соню такой, какой она была всегда: вся живая, в глазах искрятся огоньки, по лицу пробегает ироничная улыбка. Пришла другая.
- Соня, помнишь, в старой песне девушки поют: «Вы служите, мы вас подождём». Я бы спел им: «Лучше вы служите, а мы вас подождём».
Соня не улыбнулась. Спросила:
- На юг?
- Не говорят.
Бульвар переходил в парк, принявший их в свои объятия. Ветер свистел звонкую песню о загулявшей, как в последний раз на свете, осени, которая щедро сыпала золото, словно желая пустить по ветру всё своё богатство. Они ступали по жёлтым и красным листьям, целовались. Потом пошли назад.
- Ты не очень огорчён, что расстаёмся.
- Дурочка. Что же делать, если закон. Ты же знаешь, что я ничто без тебя, знаешь, как ты мне нужна. Я не смогу никому на свете это сказать, только тебе. Ты одна на свете такая.
Навстречу текла толпа. Соня подумала: как печален город, кажется, что в нём всем себя жаль. Закат горел над бульваром, уверяя юношу и девушку, что все печали не в счёт, в счёт один листопад.
Кудряков-старший приехал с работы. Детей дома не было. Лиза ещё не вернулась от подружки, Илья где-то гулял с Соней. Ксения Игнатьевна налила мужу горячего борща со сметаной. Он глотнул и зажмурился от удовольствия. Подумал: вряд ли Илью в армии будут так кормить. Жена сказала:
- Олежка, милый, надо что-то делать.
- Ты о чём?
- Сам знаешь о чём. Надо дать взятку.
- Ты что? Чтобы я…
- Да, ты. Появится опять «горячая точка». Ты же не хочешь, чтобы Илье ноги оторвало.
Он слушал и только моргал. Потом выдавил из себя:
- Нет. Не могу.
- Ты что, не любишь Илюшу?
- Люблю.
- Нет, кажется, ты его не любишь. Ты знаешь, что такое «груз двести». Знаешь - и не хочешь спасти мальчика.
- Боже мой, что ты говоришь, Ксюша.
- Если с Ильёй что-то случится… я не смогу с тобой жить.
Он не знал, что ответить. Как будто на несколько секунд лишился речи.
- Да если бы даже я согласился, где бы мы взяли такие деньжищи? Ты представляешь, сколько сдерут?
- У тебя завтра премия.
Пришла Лиза, за ней Илья. Включили КВН. Капитан команды «Ленивые вареники» подошёл к микрофону. Ведущий:
- Как возникло понятие «посёлок городского типа»? Десять секунд.
- Был посёлок сельского типа. В нём жили сельские жители. Но приехал и поселился мужчина из города, построил себе дом. Местные жители говорили: «Этот тип из города, этот тип городской». И вскоре посёлок стали называть «посёлок городского типа».
Оглушительный свист болельщиков команды «Неподкупные историки». Аплодисменты болельщиков «Ленивых вареников». Олег Владиславович подумал: чего смешного? «Неподкупные историки» запели хором на мотив известного советского молебна:
Мы за партией идём,
Славя Родину делами.
И на всём пути большом
В экономике цунами.
Когда Кудряков-старший наконец улёгся в постель, вспомнил, как они с Ксюшей и шестилетним Ильёй пошли в гости к знакомым на день рождения сына этих знакомых. Ксюша купила красивый грузовичок-фургон, наполнила его кузов орешками, и Илья подарил игрушку тому мальчику. Дети сели играть. Когда настало время уходить, Илья никак не мог расстаться с грузовичком, хотел унести его с собой, кричал. Дома у Ильи была игрушечная свинья. Илья называл её девкой. Каждый вечер, укладывая сына спать, Ксюша говорила:
- Ну, бери свою девку и ложись.
Ещё вспомнил, как сказал пасынку, что у него сестричка. Они с женой опасались, что Илья будет ревновать: всё внимание - маленькой. Так и случилось. Но Илья подрос и потеплел к сестрёнке. И Олег Владиславович с годами прирос сердцем к мальчику, который, Кудряков знал, был благодарен отчиму, но не любил его. Любовь не благодарность, любят не за что-то, любят просто так. Любовь возникает или не возникает, и ни один мудрец не объяснил почему.
Кудряков-старший закрыл глаза, а мысли всё приходили, потом их поток ослаб, и он погрузился в небытие, улетел куда-то к Млечному Пути и дальше, дальше, и вот уже время понеслось обратно, и вокруг был уже не 2007 год, а страшный 1812-й, и он приехал 18 июля в городок Поречье, где располагалась главная квартира 1-й Западной армии. Разыскал в штабе поручика лейб-гвардии Семёновского полка Константина Матвеевича Ламсдорфа - адъютанта военного министра, главнокомандующего 1-й Западной армией, генерала от инфантерии Михаила Богдановича Барклая де Толли. Долго упрашивал поручика устроить ему аудиенцию у главнокомандующего. В конце концов адъютант сдался и подвёл Олега Владиславовича к двери, за которой сидели трое военных: Барклай, генерал-провиантмейстер Николай Осипович Лаба и полковник артиллерии Тишин. Ламсдорф доложил:
- Ваше высокопревосходительство! Помещик Рославльского уезда, Смоленской губернии, отставной штабс-капитан Кудряков просит две минуты по важному личному делу.
- Какое личное… Ну хорошо. Господа, я прошу, оставьте нас ненадолго.
Лаба и Тишин вышли. Барклай - помещику Кудрякову:
- Присаживайтесь. Пожалуйста, коротко.
- Ваше высокопревосходительство! Ваш племянник молод. Он участвует в сражениях этой войны. Хотели бы вы избавить его от опасности?
- Странный вопрос. Почему вы спрашиваете?
- Моему пасынку восемнадцать. Жена умоляет уберечь его. А спрашиваю вас, потому что вы для меня высший авторитет.
- Я мог бы что-то сделать для Андрея при условии, что это не было бы связано с нарушением чести и закона. Но Андрей не нуждается, чтобы я это «что-то» делал. Он хочет защищать Отечество.
- Тогда я буду говорить не о войне с Бонапартом. Возьмём обычный конфликт, какие бывают на границах большой страны. Разве трудно понять отчима, который готов дать взятку, чтобы спасти любимого ребёнка?
- Как ваше имя-отчество?
- Олег Владиславович.
- А супруги?
- Ксения Игнатьевна.
- Олег Владиславович, мне пятьдесят четыре. Видимо, я старше вас. Ваше внезапное вторжение, ваша откровенность… В таких случаях говорят: повинную голову меч не сечёт. Должен сказать вам следующее, и передайте Ксении Игнатьевне. Ребёнка на войну не возьмут. А если его берут, значит, он уже не ребёнок. Что же касается взятки, то я бы не дал и не взял. Я русский генерал, а не мошенник. Вы же поступайте так, как позволяет вам ваша совесть. Извините, у нас очень много дел. Прощайте.
Кудряков вышел. Провиантмейстер Лаба зашёл к главнокомандующему, за ним Тишин, плотно закрывший за собой дверь. Олег Владиславович подошёл к Константину Матвеевичу, которому предстояло быть убитым 26 августа при Бородине. Это знал только помещик Кудряков. Он поблагодарил Ламсдорфа, адъютант кивнул. В коляску к Олегу Владиславовичу напросился командир 1-го егерского полка полковник Карпенков, ехавший в свой полк. В дороге он спросил:
- Слышали историю с Тишиным?
- Я видел его в штабе, - ответил Кудряков. - А что за история?
- Он был послан из Поречья за парком лошадей и едва спасся от французов бегством.
Армия отходила к Смоленску.
Они доехали до полка Моисея Ивановича. Полковник сказал:
- Устали мои солдаты. Устали отступать по приказу немца.
Помещик Кудряков читал в детстве замечательный рассказ Рэя Брэдбери и помнил, что, попав в прошлое, там нельзя ничего трогать и менять. Он не стал возражать Карпенкову. Полковник простился и вылез из коляски. Олег Владиславович продолжил путь один. Пехота сторонилась и давала проехать. Ни эти солдаты, ни их командир Моисей Иванович Карпенков, ни жители ещё не разрушенного французами Смоленска - никто не знал, что будет дальше. Никто, кроме помещика Кудрякова. Да и он знал это только отчасти.
Утром диктор сказал по радио, что ещё в древние времена умные люди понимали: ничего нового на свете не бывает. После чего начал читать новости. Олег Владиславович подумал, что лучше бы погоду сообщали в начале новостей, тогда можно было бы не слушать остальное. Он взял с собой на работу деньги. Решение ещё не принял.
Перед обедом дали премию. Ведущий научный сотрудник Соснин получил столько же, сколько главный научный сотрудник Кудряков: вот и ответил Мантейфель. Никто в лаборатории не был обижен. Павел Родионович пришёл, всем, от Гаджиевой до Чижикова, пожал руку, поблагодарил от себя и от имени Иллариона Евдокимовича. Решения ещё не было.
…Как позволяет вам ваша совесть…
Кудряков отпросился у Гаджиевой. Доехал. Не знал, к кому обратиться. Потом кого-то нашёл, тот его куда-то отвёл, там его выслушали, возмутились, он испугался, его успокоили, снова куда-то водили, затем отпустили. Он приплёлся домой. Жена плакала. Они обнялись. Ему было тошно.
Их буквально раздели, выпотрошили.
Когда проклятый день закончился, Олег Владиславович выпил успокаивающий травяной настой. Снилось, что он в супермаркете набрал полную тележку и, забыв заплатить, покатил её на выход. Охранника не было на месте, никто не преградил ему путь. Он стал перекладывать покупки в сумку и услышал:
- Предъявите чек, пожалуйста.
Стал объяснять, что забыл заплатить, сейчас заплатит, показал деньги в кошельке. Администратор - крупная красивая брюнетка с ярко накрашенными губами - вызвала милицию. Его увезли в райотдел. И там тоже никто не верил, что он не вор.
Как завтракал, как ехал в институт, чем занимался в лаборатории, что механически отвечал на вопросы коллег - всё это он потом вспоминал с трудом. Дождался вечера, вернулся домой. Илья сообщил:
- Пап, у меня обнаружили… как её… железодефицитную анемию.
- Что за анемия?
- Недостаток железа в крови. Надо есть говяжий язык.
- Это поможет?
- Наверное. Не знаю. Ну что ж, не служить так не служить. Вот Сонька обрадуется!
Кудряков-старший долго смотрел ТВ, не слушая звука. В постели думал: какое счастье владеть телом Ксюши, трогать его, прижиматься к нему! Бережно повернул жену и с упоением исполнил супружеские обязанности. Потом спал хорошо, без сновидений. Когда утром открыл глаза, уже не было тошно. Побрился в ванной. Вода была ледяная. Горячую отключили из-за аварии.
4
Парк был уже почти голый, обнажились чёрные ветви деревьев. Было сумрачно и очень далеко до весны. Люди заклеивали окна. Хотя в домах давно топили, жильцы побогаче включали электрические обогреватели, рискуя спалить квартиру. Город замер в ожидании зимы. По дороге на работу Кудряков вспомнил из школьной программы - то ли Лермонтов, то ли Некрасов:
…приближалась
Довольно скучная пора:
Стоял ноябрь уж у двора.
Ещё вспомнил: Барклай сказал о себе, что он не мошенник. Но и я не мошенник. Я не мог поступить иначе.
Ассоль явилась в лабораторию в роскошной норковой шубе, длинной, купленной вчера в рыночном центре. Женщина была абсолютно счастлива.
- Торговка - китаянка из Харбина. Я ей: «Там раньше жило много русских». Она: «И ситяс».
В обед сели провожать Чижикова в армию. Вскоре Лев уже обнимал Конюшкину. Сказал:
- Олег! Ты слышал, что тебя хотят сделать замзавом?
Гаджиева сидела с каменным лицом.
- Нет, - ответил Олег Владиславович. - Не слышал.
- И я не слышал, - невозмутимо продолжил Соснин.
Ассоль прыснула, Марина и Филипп засмеялись.
- Тебе для цирка репризы писать, - похвалил Кудряков.
Он налил себе одному и выпил. Обижаться не стал. Они со Львом за шестнадцать лет пуд соли не съели, но выпили бочку бесплатного спирта. В своей жизни Олег Владиславович получил не так уж мало тепла, но всё равно сейчас ему было комфортно. Заглянул Мантейфель. Гаджиева вышла к нему в коридор. Конюшкина сказала:
- Я бы всех нерусских гнала из Москвы поганой метлой.
- Расистка, - определил Кудряков.
- Со мной согласны почти все, - возразила Марина.
Соснин и Чижиков молчали. Потом Лев спросил:
- Филипп, тебя в какие войска?
- В мотострелки.
Соснин допил из фужера и продекламировал:
Хорошо служить солдату.
Утром бросил в цель гранату.
Днём прилёг назло комбату
И читает Кавабату.
Вошла Ассоль. Конюшкина сказала:
- Вот так и служи, Филя.
А Гаджиева его поцеловала.
За час до конца рабочего дня Олег Владиславович опять отпросился. Заведующая тяжело вздохнула и отпустила. Ему надо было на заседание историко-патриотического общества «Барклай де Толли». Оно включало сорок восемь человек, по-хорошему чокнутых. Сегодня вечером Кудряков читал доклад о намерении Барклая после соединения 1-й и 2-й Западных армий и потери Смоленска дать наконец генеральное сражение.
Поздним осенним рассветом у клуба имени 30-летия Октября играл небольшой оркестр. Чижиков пришёл с мамой, папой, двумя бабушками и двумя дедушками. На Филиппе было новое пальто и меховой картуз. Мамин отец сказал:
- Сейчас хорошо служить. А я служил три года.
- Я четыре, - заметил отец папы.
- Так то на флоте.
Призывники в дешёвой одежде, навеселе, плясали под гармошку. Многие пришли с девушками. Майор велел заходить в автобусы. Родные целовали Филиппа, вручили ему сумку с едой. Он первым залез в автобус, втащил сумку, сел на лучшее место и махал рукой.
Что было потом? Потом, не скоро, но в конце концов пришла весна. Сверкала, освободившись ото льда, гладь озера в парке. Талая вода заливала, как вином, остатки холода и грусти. Возродилась жизнь почек, травинок и птиц. Над городом раскинулось голубое небо, оно было без берегов, без дна, спокойно и просто. Кудряков-старший подошёл к проходной. Дежурила девушка, которая осенью его «задержала». Олег Владиславович с тех пор не шутил с милицией.
Убрав в карман пропуск, шёл по территории института, вдыхая раннюю апрельскую свежесть. Ему хотелось, чтобы под пьянящей синью лежала счастливая планета, где жизнь была бы чиста и прекрасна и где люди не носили бы ненависть в сердцах и взятки в карманах. Поздоровался с Гаджиевой. Она протянула ему конверт, в который была вложена фотокарточка. Похудевший Филя Чижиков всем слал привет.
«Наш взвод придумал строевую песню, капитану нравится:
Солдатушки -
Бравы ребятушки!
А где ваши кеды?
Наши кеды
Отобрали деды -
Вот где наши кеды.
Кухонный наряд ставит на каждый стол миску с сахаром - по два куска на человека. Привели. «Головные уборы снять, садись!» Тут же расхватывают сахар. Как можно брать три куска, ведь твой товарищ останется без сахара! Наряд вне очереди представляет собой двадцать часов ночной физической довольно грязной работы и обычно делится на пять сеансов. Спаси меня, Господи!»
В парке около старинной усадьбы была лодочная станция, но прокат лодки стоил дорого. Ксения Игнатьевна и Олег Владиславович экономили и просто гуляли по парку. Однажды Ксения Игнатьевна особенно ясно почувствовала, что идущий с ней по зелёной аллее мужчина - уже двенадцать с половиной лет её спутник, её отрада, и ещё поняла, что хотя им, кажется, удалось избежать земного наказания, но надо постараться избежать наказания небесного, походить в церковь, отмолить грех. Она не могла знать, что за минуту до того, как она подумала это, ефрейтор Чижиков попал под обстрел. Его бросило на стену, потом он соскользнул на асфальт. Боли не было. Ничего не было навсегда.
Родителям сообщили о гибели сына. Мама Филиппа три дня заикалась.
В Москве расцвело бабье лето. Соня Кудрякова родила девочку. Илья сказал сестрёнке-шестикласснице:
- Лизка! Ты теперь тётя.
Как мировая антреприза создает популярных писателей
Многим известно, что литературное имя профессионального историка-япониста Григория Чхартишвили - Б. Акунин. Однако немногие знают, что в переводе с японского слово «акунин» означает «негодяй», в чем, кстати, признается, герой одного из романов писателя. Почему же он вдруг сам выбрал такое литературное имя? Трудно сказать, чужая душа, как говорится, потемки.
Жизненный его путь излагается весьма скупо. Говорят, что конкретных вопросов о самом себе Г. Чхартишвили очень не любит, в аннотациях к его книгам не указаны подробные биографические данные автора. Неизвестно даже, где в точности он живет. Одни говорят, что будто под Москвой, другие уверяют, что во Франции, где в местечке Сен-Мало Г. Чхартишвили якобы приобрел средневековый замок с парком в 1,5 гектара.
Есть злые языки, утверждающие, что на него работает группа «литературных негров». Однако, по словам языковедов, свои основные произведения Акунин пишет собственноручно, без помощи посторонних лиц.
Оставим досужие домыслы, есть факты.
Такие, как странное «восхождение на литературный Олимп».
Первую книгу, как вспоминают, брали плохо. Одна газета даже сообщила читателям: «В какую редакцию ни зайдешь, везде валяется (чаще всего в мусорной корзине) какой-то Акунин...».
До пятого романа творения Б. Акунина денег вообще не приносили. А потом вдруг начался бум. Статьи, восторженные рецензии, слава. Словно кто-то дал команду, и неизвестного прежде писателя стали раскручивать по полной.
Впрочем, почему «словно»? Может, такая команда и впрямь была дана? Когда стало понятно: все, что он пишет и говорит о России, может сослужить неплохую службу для целей, от литературы далеких.
Судите сами. Устами персонажа своего романа «Турецкий гамбит» Б. Акунин заявляет о России следующее: «Ваша огромная держава сегодня представляет главную опасность для цивилизации. Своими просторами, своим многочисленным, невежественным населением, своей неповоротливой и агрессивной государственной машиной… Миссия русского народа — взятие Царьграда и объединение славян? Ради чего? Ради того, чтобы Романовы снова диктовали свою волю Европе? Кошмарная перспектива! Вам неприятно это слышать, мадемуазель Барбара, но Россия таит в себе страшную угрозу для цивилизации. В ней бродят дикие, разрушительные силы, которые рано или поздно вырвутся наружу, и тогда миру не поздоровится. Это нестабильная, нелепая страна, впитавшая все худшее от Запада и от Востока. Россию необходимо поставить на место, укоротить ей руки».
Собственно, именно это, практически слово в слово, и повторяют сегодня западные политики, решившие «судить Россию за Украину».
Один из пользователей интернета рассказывает, как он начал собирать в романах Б. Акунина русофобские цитаты, и оказалось, что ими, искусно замаскированными, все книги буквально пронизаны.
Русские у него - почти всегда алкаши, придурки, или воры. Вот всего лишь несколько примеров:
«Статский советник»:
«Эх, народишко, только подобрать, где плохо лежит».
«Пиковый валет»:
«Волосы дивного блекло-русого цвета, как у подавляющего большинства славянского туземства. Черты мелкие, невыразительные, глазки серо-голубые, нос неясного рисунка, подбородок слабохарактерный. В общем, взору задержаться абсолютно не на чем. Не физиономия, а чистый холст, рисуй на нем что хочешь».
«Статский советник»:
«Все вышло, как положено: пожгли синагогу, пошарили по хатам, кому ребра намяли, кого за пейсы оттаскали, а к вечеру, когда в шинкарском погребе отыскались припрятанные бочки с вином, кое-кто из парней и до жидовских девок добрался. Возвращались еще засветло, унося тюки с добром и пьяных».
«Статский советник»:
«От досадного воспоминания Эрасту Петровичу сделалось совсем тошно.
Да, мерзавцев и дураков в государстве много, - нехотя сказал он.
Все или почти все. А все или почти все революционеры – люди благородные и героические, - отрезала Эсфирь и саркастически спросила. - Тебя это обстоятельство ни на какую мысль не наводит?
Статский советник грустно ответил:
Вечная беда России. Все в ней перепутано. Добро защищают дураки и мерзавцы, злу служат мученики и герои».
«Коронация»:
«Ничего интересного, – ответил Фандорин, подавив зевок. – Самый обычный Сенька. Зарабатывает продажей газет на кусок хлеба да еще на водку своей пьющей мамке».
Вот такой интересный складывается у писателя портрет типичного русского.
Показательна в этом смысле книга «Турецкий гамбит». В ней Россия представлена агрессивной страной, с нелепой армией и придурковатыми генералами.
Один из них выведен в романе под именем Соболев – практически прямые ассоциации со славным русским героем, генералом Михаилом Дмитриевичем Скобелевым. У Б. Акунина этот генерал выглядит попросту идиотом.
Он настойчиво требует от Фандорина - при толпе иностранных корреспондентов - доложить заведомо секретные сведения. Фандорин бодро докладывает, что Осман-паша собирается занять Плевну. А Соболев тупо переспрашивает: «Что за Осман? Что за Плевна?».
Как заметил один из едких критиков этого романа, это выглядит так, если бы Георгий Константинович Жуков переспросил: «Что за Манштейн? Что за Сталинград?».
Писателя нисколько не смущает, что не может же командующей русской армией не знать таких элементарных вещей. Фандорин у него терпеливо втолковывает генералу, как школьнику: «Осман – главный и лучший турецкий полководец, Плевна – важный стратегически пункт...».
По историку Б. Акунину, описываемая в романе война вообще никому не нужная и бессмысленная, он ни слова не говорит о том, что на самом деле русские мужественно вступились за болгар и сербов, которых турки безжалостно вырезали.
Откуда же у него такое презрение к России? Как свидетельствуют энциклопедии, Григорий Шалвович Чхартишвили родился в Грузии, получил достойное образование. Отец - офицер Советской армии, мать - учительница русского языка и литературы. В 1958 году семья переехала в Москву. Окончил в столице школу с углубленным изучением английского языка, а потом - историко-филологическое отделение Института стран Азии и Африки МГУ. Долгое время мирно занимался литературным переводом с японского и английского языков. Потом занялся писательством. И, как по мановению волшебной палочки, произведениями Акунина скоро были заполнены прилавки книжных магазинов по всей стране. По ним начали ставить фильмы.
А затем Г. Чхартишвили вдруг стал подвизаться на политической арене, прославился на ниве белоленточных протестов, активно их поддерживая. Более того, именно он был одним из активистов «Координационного совета оппозиции», который, впрочем, вскоре канул в Лету.
Сейчас с Г. Чхартишвили – новая метаморфоза, полки книжных магазинов завалены томами его «Истории Российского государства». Однако ведущие специалисты сразу же подвергли этот опус разгромной критике. Так, Игорь Данилевский, доктор исторических наук, заместитель директор Института всеобщей истории РАН заявил: «Это уровень реферата студента первого курса на семь с плюсом по десятибалльной системе. Студента, который не очень хорошо разобрался, но рассуждает достаточно уверенно о тех или иных вещах. Он кое-что прочитал, это не полный бред, как это часто бывает. Но это весьма посредственное произведение, рассчитанное на людей, которые не имеют нормального гуманитарного образования… В «Истории российского государства» целый ряд положений не соответствует ни источникам, ни современному состоянию исторической науки. Есть там и явные ляпы. Например, там вводится совершенно новая, но при этом ни на чем не обоснованная терминология - например, «русославяне». Это какое-то чудовищное порождение! Появляются фиктивные прозвища для реально существовавших князей, например, Ростислав Отравленный, Давыд Жестокий. Нет таких прозвищ ни в источниках, ни в последующей историографии! К этому добавляется не всегда верное понимание Акуниным источников и той научной литературы, на которую он пытается опираться».
Подробно проанализировал эту книгу петербургский писатель Дмитрий Беляев - его прапрадед, генерал царской армии, после эмиграции в 1917 году оказался в Парагвае, возглавил ее армию и стал национальным героем этой страны - который нашел в ней массу исторических нелепостей, несуразностей и ошибок. Вот только одно из них: «Современная Россия - плод брачного союза между Западом и Востоком, заключенного отнюдь не по любви, это уже потом как-то стерпелось-слюбилось».
«Нет, господин псевдоним, современная Россия есть плод тысячелетнего созидательного труда великого народа, и никак иначе», - возмущается Д. Беляев. «Нет, это не «Древнюю Русь можно назвать неудавшимся государством», как вы полагаете, это вас можно назвать неудавшимся русским писателем», - выносит он свой вердикт.
Самыми мрачными красками рисует Г. Чхартишвили будущее России.
В интервью радиостанции «Эхо Москвы» по случаю выхода «Истории Российского государства» он заявил: «Авторитарный режим - это такая штука, которая через некоторое время начинает деградировать, утрачивать не только связь с реальностью, но и адекватность и даже инстинкт самосохранения…».
«…И начинает совершать ошибку за ошибкой, - подхватывает корреспондент. - В «ИРГ» есть жуткий пример, к чему это может привести - судьба Андрея Боголюбского».
«Да. Которого, в конце концов, прикончила собственная свита. Но я думаю, что Путин политзаключенных вряд ли выпустит. И гражданского диалога не получится. Это значит, что он сам будет, видимо, собственным могильщиком. Он совершит еще какую-нибудь грубую ошибку, и снова люди (еще больше народа) выйдут на площадь. И в какой-то момент все это рухнет. И тогда будет очень плохо, даже если обойдется без крови. Потому что начнется хаос…».
Согласны с историками в оценке писаний Акунина и другие люди, в компетентности и таланте которых трудно усомниться. Режиссер и депутат Государственной Думы Станислав Говорухин: «Успех Акунина меня не удивляет. Меня уже ничто не способно удивить. Сегодня публика кинотеатров, да и читающая публика, резко изменилась. Шестьдесят процентов кинозрителей - это тинейджеры. Двадцать пять - офисная дурь, тридцатилетние «яппи», чей уровень развития еще ниже, чем у подростков... Акунин - это не исторические романы, это псевдоистория. Мне, как члену Союза Советских читателей, как человеку, который читает много и легко ориентируется даже в нынешнем океане издаваемой литературы, это читать скучно».
А литературовед, академик Академии русской современной словесности Павел Басинский дает такую оценку: «Я знаю Акунина-Чхартишвили. Он стопроцентный западник, стопроцентный глобалист и стопроцентный праволиберал.
Все его романы - я уже писал об этом и настаиваю на этом сейчас - насквозь идеологичны. В гораздо большей степени, например, чем сентиментальная «Мать» Горького или наивный роман-предупреждение Кочетова «Чего же ты хочешь?».
Это тем более любопытно, что на сегодняшний день Акунин - единственный реально удавшийся «либеральный» проект».
Неслучайно, что в России у него, как это ни странно для такого «многотиражного автора», нет литературных премий. Точнее, есть, но это – «антинаграды». Так, в марте 2014 года, в день открытия XVII национальной выставки-ярмарки «Книги России» ему была вручена профессиональная антипремия «Абзац», которой отмечают худшие работы в книгоиздательском бизнесе нашей страны. Специальный приз «Почетная Безграмота» за «особо циничные преступления против российской словесности» присужден Б. Акунину за книгу «История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия».
Акунин – Чхартишвили талантлив? Конечно, не бездарен. Каким же образом такие авторы вдруг оказываются на пике внимания? На эту метаморфозу обратил внимание ядовитый Эдуард Лимонов: «Акунин - как американский пенсионер. Писал всякое учтивое старомодное чтиво, «а-ля Эркюль Пуаро», дожил почти до шестидесяти лет, сколько однотипной дребедени наделал, книг под полсотни уже. Вел себя тихо, трости с набалдашниками, допустим, коллекционировал. И вдруг на закате дней своих стал злым врагом режима. Но зачем попу гармонь?»
Есть люди, которым это очень нужно. Словно какая-то незримая рука заботится о таких историках и писателях, направляет и толкает вверх, печатает многотысячными тиражами, пишет восторженные рецензии и пробивает на телевидение. Сегодня ценность и популярность того или иного писателя определяется рейтингами продаж его книг, а также тем, насколько часто его имя упоминается журналистами, как часто его показывают по телевидению. При этом нередко это частота появления и цитирования далеко не всегда определяется качеством книг.
Редко-редко встретишь в средствах массовой информации упоминание о таких писателях, как Фазиль Искандер, Валентин Распутин, Борис Васильев, Борис Стругацкий, или даже модных и действительно интересных писателей нового поколения.
Нет, чаще всего звучат имена Людмилы Улицкой, Владимира Сорокина, Дины Рубиной, Дмитрия Быкова, Виктора Ерофеева…
Ничего удивительного. Их объединяет одно: резко негативное отношение ко всему, что происходит сегодня в России, смакование в своих книгах всякого рода пороков и извращений, вплоть до откровенной порнографии, издевательское отношение к идеям патриотизма и другим национальным ценностям России. Они-то и есть кумиры нынешней либеральной тусовки, потому их и «пиарят» всеми возможными способами. Непрерывно приглашают на телевидение для участия не только в литературных передачах, но и во всякого рода «шоу», пишут о них статьи в газетах, берут у них интервью, включают в списки претендентов на литературные премии, а потом эти премии именно им и вручают. Что вовсе нетрудно, поскольку жюри таких литературных конкурсов сплошь и рядом сформировано из людей таких же либеральных взглядов.
Зато «публике» внушается, что именно эта группа писателей и является сегодня лучшими талантами русской литературы, людьми, чье мнение об истории России, ее политике есть истина в последней инстанции. На эпитеты не скупятся: «великий писатель», «выдающийся прозаик», «непревзойденный мастер». Именно для таких писателей либералы «организуют» приглашения на международные писательские конгрессы, обеспечивают перевод их книг на иностранные языки, содействуют вручению им «забугорных» литературных премий.
Есть круг лиц, успех которых, как говорил Георгий Свиридов, определяется, теми, кого он назвал «мировой антрепризой».
«Это давняя традиция дельцов от искусства - держать в своих руках организацию приглашений за рубеж, гастролей, рекламы, системы международных премий, гонораров, создания «звезд», подавления инакомыслия в творческой среде, - считал великий русский композитор. - Система эта создавалась в двадцатые-тридцатые годы, у нас мировая антреприза была представлена салоном Лили Брик с ее мужем Осипом, с окружением из художников, критиков, журналистов, импресарио... Этот салон был связан с салоном Эльзы Триоле и Луи Арагона в Париже, ведь Эльза Триоле - родная сестра Лили Брик, а девичья фамилия у обеих сестричек - Каган; через американского дельца Соломона Юрока наши представители мировой антрепризы устраивали гастроли угодных им людей в Америке... О, вы не знаете! Возможности этих салонов, образующих сеть мировой антрепризы, могущественны, и те, кто это сознают и подчиняются ее законам, обречены на успех!».
Эта «антреприза» есть и сегодня, именно она правит бал в России. «Антреприза», подкормив «демократизаторов» иностранными грантами, затем заставляет их отрабатывать полученные авансом гонорары: участвовать в политических акциях оппозиции, писать петиции, открытые письма с осуждением действий власти, шагать в колоннах манифестантов «болотных площадей», называть воссоединение Крыма с Россией «оккупацией»…
Вот она, простая задача создания либеральных антироссийских проектов.
Ну а Б. Акунин, охаивая Россию, дошел до кощунства. «После того, как Акунин растоптал достоинство Российского государства, он принялся за религию, - возмущается писатель и режиссер Александр Гриценко. - Я прочитал много реплик по поводу романа «Пелагия и красный петух» на иностранных форумах. Люди удивляются, как это так, ни одна живая душа в России не заметила, что Акунин дошел до крайнего кощунства? Почему никто и не пытался призвать автора к ответу?».
«В интернете многие называют роман «Пелагия и красный петух» Евангелием от Бориса Акунина, - продолжает А. Гриценко. - Другие пишут, что это кощунство написано демоном. Согласен, что, похоже. Акунин медленно и цинично растоптал Россию. А потом, войдя во вкус, дал пощечину христианам».
На своем личном сайте в интернете писатель открыто признается, что жить ему сейчас в России «неуютно».
«Сегодня многие люди моего круга и образа мыслей думают и говорят об эмиграции, - пишет он. - Они готовы бороться с правящим режимом за лучшую (в нашем представлении) жизнь, но не готовы бороться с восемьдесят-сколькими-там процентами соотечественников, которым этот режим, судя по всему, нравится. Общее настроение в моей среде такое: «Ну, и сидите с вашим Путиным. Когда поумнеете – звоните». Кто-то готовится к эмиграции географической, кто-то – к экзистенциальной, тем более что советский опыт «кухонной микросреды для своих» еще не забылся… С путинской же Россией у меня нет точек соприкосновения, мне чуждо в ней все. И находиться здесь в период всеобщего помутнения рассудка мне стало тяжело. Поэтому эмигрировать я, конечно, не намерен, но основную часть времени, пожалуй, начну проводить за пределами. Трезвому с пьяными в одном доме неуютно».
Тем, кто понимает истинный замысел «либерального проекта», с «гениями» в одном доме тоже находиться крайне неприятно. Но не радуйтесь, «таланты» не уедут: забугорной «антрепризе» они нужны в России. Чтобы создавать «шедевры» на тему русской истории и христианства.
Ну, а насчет тиражей и прочей «раскрутки» за них позаботятся.
Специально для Столетия
Живой классик отечественной литературы. Такие его персонажи, как Эраст Фандорин или Пелагия, полюбились миллионам читателей по всему миру. В настоящий момент он работает над масштабным проектом: « ».
По образованию Григорий Шалвович - ученый-японист. Он перевел на русский язык произведения таких именитых авторов как Юкио Мисима , Кэндзи Маруяма, Ясуси Иноуэ и многих других.
Мы поговорили с ним о современной японской литературе, ее влиянии на его собственные произведения, а также о творческих планах на ближайшее будущее.
Григорий Шалвович, русская литература сильно повлияла на японских писателей. Вспомним хотя бы Акутагаву , Нацумэ Сосэки , не говоря уже про Дадзая и Мисиму. Но было ли обратное влияние: кто из японских авторов оказал наиболее сильнее влияние на отечественную литературу? И на каких авторов прошлого века?
До 1960-х годов японскую литературу у нас в стране, в общем, не знали и не читали. Первую брешь пробил Кобо Абэ , который вошел в джентльменский набор советского интеллигента. Считалось неприличным не знать «Женщину в песках» или «Чужое лицо». Не думаю, впрочем, что эта сложная проза на кого-то из тогдашних русских авторов всерьез повлияла.
Вторая волна пошла уже в недавнее время: сначала Юкио Мисима, потом всероссийски любимый Мисима явно повлиял на Лимонова, который, по-моему, стал подражать Мисиме даже в поведении и поступках, разве что харакири не сделал. Мураками же подействовал на генерацию молодых писателей. Им импонировала этакая блазированная, прохладная отстраненность, свойственная текстам замечательного японского беллетриста. Она и в самом деле весьма обаятельна, эта интонация.
А творчество каких японских писателей XX века повлияло на Вас сильнее всего?
Мисимы, конечно. Только не в качестве образца для поведения, а в литературном смысле. Вернее, в некоторых технических приемах, которым я у него научился. Еще есть менее известный, но не менее интересный Кэндзи Маруяма. Если у Мисимы я учился декоративности, то у Маруямы, наоборот, минимализму.
Нацумэ Сосэки в своих романах создал образ этакого «японского », интеллигента, который ничего не делает. Его недеяние не приносит зла. Но и добра тоже нет. Это был ответ писателя на наступление реакции. Актуален ли подобный образ для нынешней России?
Пожалуй, да. Только нынешний российский искейпизм выражался бы в фейсбучной зависимости - туда, в этой призрачное пространство герой расходовал бы все души прекрасные и непрекрасные порывы, совершал бы маленькие гражданственные поступки через перепосты, маленькие злодеяния через желчные комменты и маленькие добродеяния через Яндекс-кошелек.
Каких японских авторов начала прошлого века Вы порекомендовали бы прочесть в первую очередь?
Из начала века только Акутагаву. Мне кажется, он устарел меньше других. Потом Дадзай Осаму интересный. Не знаю только, есть ли хорошие переводы на русский. В мои времена не было. Там без стиля пропадает весь флёр.
Как Вы относитесь к японскому театру абсурда и к Минору Бэцуяку?
Театр абсурда я на дух не выношу ни в каком национальном изводе. Потому и Бэцуяку не читал.
Никакой художественной литературы не читаю. Когда начал писать ее сам, остро ощутил, что с чтением других авторов надо завязывать. Это очень мешает. Ну вот представьте себе парфюмера, который пытается изобрести какой-то свой аромат, а ему суют под нос склянки с чужими духами и одеколонами. Как уволился из журнала «Иностранная литература» 16 лет назад, так с тех пор только документальную прозу и читаю. Она безвредная.
Если выбирать между Юкио Мисимой и Дзюнъитиро Танидзаки : кого из них Вы ставите выше и почему?
«Выше» - некорректный термин. Лично мне Мисима очень интересен - ну, или был интересен, а Тандизаки нет. Дело, конечно, во мне, а не в Танидзаки. Я всегда был пристрастен и субъективен в оценках литературы, потому что отношусь к ней серьезно. Мне не кажется, что к литературным произведениям вообще можно относиться «объективно». Если книга мне, лично мне, здесь и сейчас ничего не дает, ничем не полезна, она мне не нужна, я зря трачу время. Танидзаки мне не давал ничего. От скучного Кавабаты и то было больше проку. У него замечательно получается фокус, когда одна крошечная деталь, не лезущая в глаза, оживляет всю картину. Сразу видишь мизансцену, она вся на полутонах, и она прекрасна.
С раздражением, по-моему. Ну, то есть нехудожественную книгу «Писатель и самоубийство » встретили неплохо, а что касается фандоринских приключений, многих разозлило мое изображение японцев. Там довольно ревниво относятся к тому, как их видят и изображают иностранцы. Мои ниндзя, самураи и роковые куртизанки с точки зрения японцев - такая же клюква, как для нас медведи с балалайками. Игра с клише и стереотипами - штука хитрая и не всегда понятная. Насколько мне известно, в Японии и Тарантино с «Килл-Биллом» не очень пришелся ко двору.
Какие экранизации современной японской литературы Вы считаете наиболее удачными?
Прошу простить, но я и японский кинематограф не особенно люблю.
И последний вопрос: какие Ваши творческие планы на ближайшее будущее?
У меня идут два больших проекта, которые мне очень интересны. Серия « » - пишу том за томом, уже добрался до петровской эпохи. И серия «Семейный альбом» - это романы о русском ХХ веке. Скоро выйдет третий по счету, про 30-е годы. А кроме того в следующем году собираюсь написать последнюю книгу про Эраста Фандорина.
Что было самым далёким и первым в Мишиной па-мяти?
Два дождя. Сначала дрожащие ручейки ползли по оконному стеклу купе, а потом Миша стоял с мамой в подъезде, и по булыжной мостовой неслись потоки.
На двухэтажном троллейбусе, мимо строившихся высотных домов мама возила сына в детский сад. На утреннике Миша читал:
Наш товарищ Сталин
Лучше всех на свете.
Крепко любят Сталина
Маленькие дети.
Воспитательница говорила:
Не шумите, дедушка Сталин болен.
И дети ходили на цыпочках.
А однажды утром мама плакала, и, когда шли к троллейбусу, на домах висели красные флаги с чёрной полосой. Потом бабушка собралась пойти к Дому союзов и хотела взять внука. Дочь отговорила её брать Мишу, и бабушка пошла одна.
Маму звали Роза Самуиловна. Она работала учительницей в вечерней школе, Миша тихонько рисовал за последней партой, а дома она читала ему книжки.
Дома был ёжик, который стучал по ночам и разлил банку с чернилами.
И ещё был сосед Валера - толстый мальчик, которого одевали в косовороточку. Однажды в игре возник конфликт, и Валера пригрозил:
Как брошу на тебя атомную бомбу!
А я на тебя водородную, - предупредил Миша.
Потом Мишу стал отвозить в детский сад офицер Гурам, который интересно рассказывал про войну, а воспитательнице сказал:
Не будет у вас больше Миши Тиссенбойма.
Забираете? - спросила она.
Будет Миша Тавадзе.
Появился двухколёсный велосипед, и офицер бегал с мальчиком по двору, пока тот не перестал падать.
А ещё мама, Миша и Гурам ходили на огромный стадион смотреть игру «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Тбилиси). Мама умела здорово свистеть, но не хотела этого делать.
Потом поезд повёз их в Грузию. Он остановился на самом берегу Чёрного моря. Гурам выскочил из вагона, скинул китель, сапоги, галифе. Оставшись в трусах, бросился в набегавшие волны и поплыл от берега. Поезд медленно-медленно тронулся, мама кричала мужу:
Гурам! Гурам!
А отчим ещё плыл в ту сторону. Но успел благополучно вернуться, вскочил в вагон.
А вот и родная деревня Гурама. Чайные кусты, висячий мост. Ерти, ори, саме, отхи. Гамарджёба, бичо!
Женщина-грузинка спросила:
Почему говоришь Гурам? Говори папа.
Гурам учил пасынка плавать. Рассказал, как однажды, под бомбёжкой, прыгнул в колодец, но там не заткнул уши. Бомба разорвалась вблизи, он стал хуже слышать.
Миша пошёл в первый класс, класс буйный, неуправляемый старенькой учительницей, и, как владелец резинового мяча, возглавил компанию мальчишек, говоривших на грузинском и на ломаном русском языке. На грузинский Миша перейти не мог, но быстро, к ужасу Розы Самуиловны, освоил русский ломаный.
Это был пятьдесят шестой год. Миша запомнил слова отчима:
Если бы мою сестру штыком в живот…
Грузинскую дивизию, в которой замполитом полка служил Гурам, вывели из города на учения, окружили и разоружили.
Снова купе. За окном вспаханная пограничная полоса, за ней река Аракс, а вдали двуглавый Арарат.
Нахичевань.
Роза Самуиловна работала диктором на радио.
Октябрьская жара, арыки, военный городок, орудия, кино в части «Под небом Сицилии», беззубый закадычный приятель Колька не боится драки с азербайджанскими мальчишками.
Новость: у Миши брат!
Миша с криком «ура!» катался по дивану и болтал ногами. Но новорождённый брат Сергей оказался голубоглазым и белобрысым, и это Мише было неприятно.
Потом самолёт перенёс в Казахстан.
Немцы в телогрейках и валенках, говорят по-русски, а зовут их Карл и Марта.
Из Петропавловска в магазин привозили сахар в больших кусках или белый хлеб, и тогда посёлок выстраивался в очередь. Нужно было много хлеба, потому что почти все держали свиней.
Гурам ездил с Мишей в санях на охоту, на катке у клуба дорогие Мишины коньки вызывали зависть ребят, а дома в саманной избе ветер наметал сугробик в углу комнаты; весной в погребе и во всём посёлке начиналось наводнение, а знойным летом в роще за озером собирали землянику.
Роза Самуиловна поставила с десятиклассниками отрывок из «Любови Яровой». Шинелями и винтовками артистов обеспечил райвоенком Гурам Тавадзе. Мише очень понравилось представление, особенно Швандя. Вскоре Гурам с возмущением рассказал жене, что в некоторые части можно направлять призывников только русской, украинской и белорусской национальности.
Военкоматовский конюх Голомаздин учил Мишу ездить верхом на Жемчуге.
У Мишиного друга Асана была собака, они втроём носились по посёлку, потом придумали рыть землянку, вырыли её на краю огорода, сидели в ней во время дождя и читали про бомбардировки Порт-Саида, после чего Асан сообщил учительнице их третьего класса, что Суэцкий канал выведен из строя.
Она писала на доске «зема» вместо «зима», но не раз говорила, что ей всё равно: сын пастуха или сын военкома.
Когда класс приняли в пионеры, то председателем совета отряда выбрали Ванечку Микулина - хорошего мальчика в очках, а одним из трёх звеньевых массы выдвинули Мишу. Тот был счастлив. Но через неделю истинная учительница вкатила сынку подполковника две двойки подряд и, игнорируя результат народного волеизъявления, заявила:
Нам таких командиров не надо!
Дети, в том числе Ванечка, молчали. Они не понимали, что учительница совершила переворот.
Миша поплакал и спорол нашивку.
Роза Самуиловна поехала на поезде в Петропавловск, там села в самолёт, полетела в Москву, проголосовала, чтобы не лишиться московской прописки, и тут же полетела обратно, потому что утром надо было на работу. Они с Гурамом подписались на полное собрание сочинений Шекспира в восьми томах. Пришёл только третий том.
Для крыши сарая нужен был камыш. Серым ноябрьским утром Миша и отчим поехали на военкоматовской подводе за двенадцать километров. Гурам рассказывал, как во второй день войны увидел фашистский самолёт. Все попрятались, куда могли, а он залез под трактор и стрелял в самолёт из пистолета. Стреляли не только из пистолетов, короче, лётчика сбили, взяли в плен, отвели в буфет, угостили пирожными, он сказал «данке».
А в камышах случилось вот что: Жемчуг отвязался. Отчим начал его ловить: он уговаривал коня, пытался к нему медленно приблизиться, тот отскакивал. Они удалялись и вскоре исчезли. Стемнело. Миша не подумал о том, что будет с Гурамом, когда тот вернётся и не найдёт его у телеги. Он пошёл в поле, огляделся. Огней нигде не было видно, но в одной стороне небо у горизонта слегка светлело. И он пошёл туда. Идти было страшно. Ветки кустов цеплялись за пальто, казалось, что за скирдами кто-то прячется. Кто? Волки? Показались огни, наконец Миша, сам того не ожидая, пришёл в свой посёлок. Он был уверен, что шёл в противоположном направлении. Мама спросила:
Где папа?
Не знаю.
Роза Самуиловна накинула пальто и побежала будить офицеров. Водитель долго заливал бак бензином, и мальчик думал: «Скорее, скорее, ну сколько можно!». Наконец, двинулись. Когда фары высветили развилку, капитан спросил Мишу:
Эта дорога?
А может быть, эта?
Долго колесили по ночной степи. Кричали в темноту. Лейтенант стрелял в воздух из автомата. Вернулись. Рассвело. Офицеры уже смотрели на Розу Самуиловну, как на вдову.
Тем временем отчим вернулся к подводе. Пасынка не было. Гурам решил: не найду - не приду домой.
Через несколько часов телефонный звонок отыскал военкома. Приехав домой, он сказал Мише невесело:
Герой.
Потом семья ехала из Казахстана в Москву. На станции Курган в тамбуре повздорили два мужика. Миша запомнил их перепалку:
Я немцев бил и тебя убью!
Все немцев били.
Миша стал ходить в московскую школу, приносил пятёрки и двойки, похвальные листы и замечания в дневнике и играл со своим маленьким братишкой, в котором текла кровь Мишиной мамы и чужого Мише человека. Миша то любил Серёжу, то обижал его в игре, тот начинал орать, тогда подходила Роза Самуиловна и трескала по затылку обоих, поскольку была женщиной умной и по профессии педагогом.
Соседи по коммуналке - Карташёвы - были, как почему-то принято говорить, «простыми» людьми: бабушка Надежда Григорьевна, пенсионерка; её дочь и зять, - оба маляры; их дочка Инна и сын Валера. Отношения с этой семьёй были обычными, без особой любви, но слова «жиды» от них не слышали. Инна уже работала кассиром в продовольственном магазине, и подарила Мише хоккейную клюшку. Надежда Григорьевна иногда покупала живую рыбу и звала Валеру или, если его не было дома, Мишу на помощь: отрезать рыбью голову. Сама не могла.
Я режу, - говорила Надежда Григорьевна, - а она смотрит!
Миша резал, и ему было жалко несчастную рыбу.
Мишин классный руководитель потерял на войне зрение. Однажды Миша отвечал ему, стоя за партой, а на парте лежал открытый учебник, и Миша подглядывал. Учитель всё понял и спросил:
У тебя открыта книга?
Признаться было очень стыдно и страшно, и мальчик соврал:
Закрыта.
Учитель кивнул и велел старосте поставить пятёрку. В конце урока он что-то попросил у Миши, и, если бы мальчик слышал, то, конечно, выполнил бы просьбу. Очнувшись от мечтаний, Миша подумал, что просьба исходит от толкающей его соседки. А ходил он в школу не с портфелем, а с чемоданчиком, который ужасно гремел, и извлекать его из парты во время уроков было немыслимо, тем более на тишайших уроках классного руководителя. Миша сказал девочке:
Неохота лезть в чемодан.
И тут учитель произнёс:
Нутро у тебя гнилое.
Мальчик тогда ещё не знал, что в нём много плохого, считал себя вполне хорошим, и было неожиданно больно...
В летние месяцы братьев возили к морю, а когда Миша стал постарше, его потянуло в пионерлагерь, и лето он стал проводить там.
И в классе, и во дворе, и в лагере между ребятами случались ссоры, выливавшиеся в поединки, на которых Миша был зрителем. Он не любил драки и боялся их, поэтому записался в секцию бокса. Ему купили перчатки и боксёрские бинты, бинты наматывались на кисти рук, перчатки надевались на бинты, и надо было выходить на ринг, защищаться и бить. Защищаться приходилось волей-неволей, но бить не хотелось совершенно. Тренер, призёр Олимпийских Игр, со сбитым на сторону носом, из которого врачи изъяли кость, оставив только мясо, кричал Мише:
Почему ты не бьёшь?!
И мальчик начинал махать кулаками.
Как-то вечером Миша возвращался из секции с товарищем, и в одном из тёмных дворов к ним подошли четверо ребят, незнакомых Мише. Один из них улыбнулся:
Здорово, Виталик!
Другой взял Виталика за пуговицу и сказал:
Слабак ты.
Миша потихонечку пошёл вперёд. Товарищ вскоре догнал его, и два боксёра поплелись дальше.
Во дворе и лагере царил футбол, на почве которого Миша легко сходился с мальчиками, жившими в деревянных бараках между школой и Мишиным домом. Многие из них курили, ругались и дрались, а Миша не курил, не ругался и не дрался, у них не было сшитого в ателье зимнего пальто с дорогим воротником, а у Миши было, и ему было приятно, что он богаче их, но футбол был выше всего, и радостью для всех было отобрать мяч, обвести защитника, забить гол в «девятку». А о том, как Миша в лагере закрутил мяч в ворота прямо с углового (он не собирался этого делать, просто хотел навесить на вратарскую), помнили всегда. В лагере Миша был в сборной отрядов, а перед игрой с гостями из другого лагеря ребята выбрали его капитаном. Матч складывался неудачно, они проигрывали, и у Миши не клеилось. Вдруг противник нарушил правила вблизи своей штрафной площадки, и кто-то предложил:
Пусть пробьёт Улан.
Уланов, мальчик с хорошим ударом, бежал с другой половины поля, а гости выстраивали стенку, но ещё можно было попасть в ворота, и мяч лежал возле Миши, который, в конце концов, был капитаном. Миша ударил, промазал и услышал:
Поставили дурака капитаном.
В тот же миг Миша сорвал с рукава красную повязку, бросил её на траву и крикнул:
На, возьми её себе!
Судья свистнул и показал рукой:
Тавадзе, с поля!
Нужно было бежать, чтоб никто не увидел слёз, а на Мише была футболка с пришитой эмблемой пионерлагеря «Ленинец». Он успел подумать, что его заменят, а лишней футболки нет, и на бегу сбросил её у кромки поля, но потом, уже в лесу, вспомнил общеизвестное: удалённых не заменяют, а весь лагерь видел, как он швырнул футболку и как он швырнул повязку, которая была для него лишь символом власти в команде и престижа в лагере, для вожатого же, судившего игру, она была чем-то ещё.
Отчим, демобилизовавшись, работал сначала снабженцем. Но подполковнику было противно поить нужных людей коньяком, и он устроился в крупный музей завхозом. Однажды обедал в буфете музея с Ираклием Луарсабовичем Андрониковым, они славно поболтали по-грузински. В конце концов отчима взяли на завод заведующим парткабинетом. Боевой офицер расставлял брошюрки. Но Гурам Северьянович попал в номенклатуру райкома. Когда Миша впервые пришёл на приём в закрытую поликлинику, он был поражён: больных нет, пустые коридоры, скучающие врачи. Роза Самуиловна тогда сказала мужу: «Устроили себе коммунизм: магазины свои, поликлиники свои, санатории свои, ателье свои». Старший сын слышал.
К четырнадцати годам Миша знал, что в его стране быть евреем некомфортно, но на себе этого не чувствовал. Его бабушки и дедушки были евреями, но он не знал ни слова на этом древнем языке, не слышал об иудаизме. По воскресеньям, гоняя во дворе мяч, впитывал русский мат, а, придя домой, слушал, как еврейская мама и грузинский отчим обсуждают по-русски судьбу русского мужика Ивана Денисовича.
Однажды, вернувшись из пионерлагеря, Миша узнал от мамы, что Гурам Северьянович с ними больше жить не будет. И она, и отчим пытались объяснить Мише развод, но он слушал не очень внимательно. Его не интересовал второй брак матери, хотелось, чтоб вместо хорошего человека Гурама Тавадзе был плохой человек Наум Тиссенбойм, и чтоб Серёжа был чёрненьким. И казалось Мише, что бабушка с ним согласна. Миша видел, что бабушка любит его больше, чем Серёжу, про которого она сказала дочери:
Этот грузин тебе покажет!
Когда бабушке было семнадцать лет, она служила у купца, еврея, на которого работали заключённые, и ей приходилось бывать в остроге. Однажды красивый молодой заключённый попросил её пронести на улицу конверт и опустить в почтовый ящик. Бабушка согласилась и делала это не раз, и ей было ужасно интересно, о чём письма. Потом наступил Март, и бабушка не вышла на работу (зачем, раз свобода?), а пришла на митинг. На столе стоял тот заключённый и говорил близкие сердцу бабушки слова о равенстве, эксплуатации, буржуях. После митинга люди разошлись, а бабушка осталась, подошла к оратору, и он сразу узнал её. В Гражданскую войну они вместе пошли на фронт, сидели в Уральской осаде, и Эсфирь получила от казаков осколок в левый локоть на всю жизнь, а Самуила все осколки облетали. В июле 1919 года осаду ликвидировала одна из частей красной 5-й армии. Вызволенные из кольца красноармейцы качали, целовали, обнимали Фрунзе. Был дан двухнедельный отдых. Вскоре Самуил и Эсфирь поженились в Саратове, её рука ещё была на перевязи. Потом их направили на южный фронт. Муж стал начальником особого отдела дивизии, а она - его подчинённой, начальницей особого отдела бригады. Был жаркий день, и воду пить было опасно, а лица особистов и расстреливаемых из пулемёта заложников были чёрными, когда начальница села на лошадь и поехала в город. Там она вскоре родила дочку. Тогда начальник тоже сел на лошадь, но близ города дорога спустилась в балку, и раздались выстрелы.
Миша перечитывал «Историю Гражданской войны», на титульном листе которой бабушка в тридцать седьмом году замазала синими чернилами фамилии членов редколлегии, а потом рисовал на контурных картах положение на фронтах в 1918 году и в 1919 году, и Роза Самуиловна показывала эти карты в учительской вечерней школы рабочей молодёжи на Красной Пресне.
Из Мавзолея вынесли тело Сталина, переименовали города, и это интересовало Мишу, правда, собеседников среди товарищей он не находил, а девочка Наташа в лагере назвала его в насмешку политиком, но продолжала танцевать с ним. В дождливые вечера не танцевали, дети играли в почту, Миша писал на конверте с Гагариным и Титовым «от № 4 к № 10», и почтальон уносил сокровенное послание в палату девочек. Иногда дождь лил целый день, не было ни футбола, ни танцев, мальчики, лёжа на койках, пели народные песни:
Лагерь познакомил, милка, нас с тобой.
Суд нам преподнёс букет разлуки.
Прокурор на счастье и покой, о Боже мой,
Поднял окровавленные руки.
Миша думал, что лагерь в песне - это пионерлагерь, а про руки прокурора вообще не мог понять, и про букет разлуки тоже.
Идут на север. Срока огромные.
Кого не спросишь - у всех указ.
А ты взгляни в глаза мои суровые,
Взгляни, быть может, в последний раз.
Что значит указ? Но песня нравилась. А в это время за стенкой вожатый, прикрыв дверь плотнее, чтоб не мешали, составлял план пионерской работы во втором отряде.
В восьмилетке после выпускных экзаменов был вечер, с родителей собрали деньги, и дети объелись эклерами и упились лимонадом. Потом была июньская ночь, мальчики и девочки пошли на Ленинские горы, шумели, играли в платочек и целовались, смотрели сверху на Москву, и если на Северном полюсе, куда ни ступи, пойдёшь на юг, то дорога с гор в любой из переулков предрассветного лабиринта представлялась им дорогой в опьяняющую, загадочную, не прожитую ещё жизнь. Потом над Москвой-рекой вставало красное солнце, а город спал, и Миша пришёл домой к зав-траку.
Вскоре он сочинил рассказ о том, как он встретил в магазине девочку и пошёл за ней, в нескольких шагах позади. Иногда толпа закрывала её, но он знал, что она идёт рядом, и ему было хорошо. Она была рядом, и он мог видеть, видеть, видеть её, и ему ничего не надо было от жизни, лишь идти за ней и видеть её. Они спустились в метро. Она вошла в вагон, повернулась к нему лицом, и он остановился. Он не вошёл за ней. Двери закрылись. Он успел увидеть, как она красивым жестом поправила волосы.
Миша показал рассказ маме - учительнице литературы. Вот её отзыв: «Сказать ты можешь. Но сказать тебе нечего. Но настроение передано. А главное - запомни: основа творчества - непридуманное переживание».
Мама без конца проверяла тетради. Она настроила Мишу поступать в техникум, пока, а там видно будет. А если после техникума ничего не будет, говорила она, то останется техникум, конкретное и нужное ремесло, не то что её филология. Всё лучше, чем лишних три года торчать в школе. Выбрала сыну самый модный и современный техникум. А Мише было всё равно, и с сентября он уже получал стипендию - двадцать рублей. Половину отдавал маме, так она велела. Бабушка премировала внука: купила ему в ГУМе велосипед «Тула».
Началась новая жизнь. Правда, поначалу курить не хотелось, пиво казалось невкусным, но нравилось слушать битлов и танцевать с девчонками из техникумовской группы. Чаще всего это происходило у Сударикова - Мишиного друга и соседа по парте. Андрей имел по электронике только пятёрки, получал повышенную стипендию, позволял Мише списывать, помогал ему на экзаменах. Без Андрея Миша бы пропал. Мише было невыносимо тоскливо на занятиях по радиотехнике, импульсной, вычислительной технике. Он порой не мог подготовиться к опросу и, чтобы не получить двойку, пропускал урок и бродил по окрестным улочкам. Рядом находился речной техникум, учившиеся в нём ребята носили белые фуражки, и Миша завидовал.
Исполнилось шестнадцать, и Миша пришёл в отделение милиции. В кабинете майор, держа в руках авторучку и новенький Мишин паспорт, спросил:
Какую национальность выбираете?
Потом, когда Миша подходил к дому с книжицей в руках, навстречу шёл Валерка Карташёв.
Покажь, сосед.
Миша с удовольствием предъявил паспорт, в котором значилось грузин.
Ему ни разу не пришлось пожалеть о своём выборе...
В Москву прилетела сборная Бразилии. В Лужниках на Большой спортивной арене посмотреть бесплатно тренировку гостей собрались тысячи москвичей. Бразильцы разделились на зелёных и оранжевых и играли. Что они выделывали с мячом! Потом зрители собрались у выхода из раздевалки. Милиционеры с трудом проделали проход от двери. Миша протырился к самому проходу. Появился тренер Висенте Феола, полный человек, стал протискиваться к автобусу. Милиционеры сдерживали натиск болельщиков. Затем показались игроки. Им кричали:
Где Пеле?
Бразильцы показывали большим пальцем назад. И вот в дверях возник он, Эдсон Арантис ду Насименту. Что тут началось! Его хлопали по плечу. Пеле сиял: такая популярность где-то на краю света, в России. Он поравнялся с Мишей, и Миша тоже мог хлопнуть по плечу, но, во-первых, он оробел, а, во-вторых, подумал: всё равно ведь никто не поверит.
На следующий день наши проиграли 0:3.
После техникумовских занятий расставаться не хотелось, часами слонялись по Москве, иногда после распития портвейна в подворотне. Тогда погиб космонавт Владимир Комаров, и один из ребят сказал:
Одним дармоедом меньше.
Как резанули Мишу эти слова! Он возразил в том духе, что человек не может не завоёвывать пространство, не летать к другим планетам и звёздам, но услышал отповедь: в СССР, особенно в провинции, не хватает всего: жилья, обуви, колбасы, и весь этот космос - за счёт простых людей.
Миша учился всё хуже, его лишили стипендии. Но много ли надо денег, чтобы забиться с гитарами в электричку, высадиться десантом в Берёзках, Фаустове или Тучкове и идти на край земли, или плыть по Клязьме в мае, а вокруг леса да леса, по вечерам нырять в весеннюю воду, потом выпивать кружку водки, лопать горячую картошку с тушёнкой и глядеть в огонь костра.
Всё перекаты да перекаты.
Послать бы их по адресу.
На это место уж нету карты,
И мы идём по абрису.
Выпивший Андрюшка Судариков ворочал веткой дрова в костре, вздымая искры в тёмную высь, и увязывал телепатию с теорией Альберта Эйнштейна:
Представьте, что установлена связь между телепатами, существующими в мирах с разной скоростью относительных времён. Телепат из медленного мира одновременно связан мыслями с прошлым и будущим телепата из быстрого мира. «Медленный» телепат видит «быстрого» не в единственном экземпляре, а в скольких-то изображениях на оси времени. Если же установить в медленном мире телепата-ретранслятора, то быстрый мир получит возможность из своего прошлого, обгоняя время, послать через ретранслятор посылку в своё будущее и… получить ответ!
Захватывало дух. Все девушки смотрели на Сударикова. Как звучат в семнадцать лет гитарные струны!
Клёны выкрасили город
Колдовским каким-то цветом.
Это омут, это омут -
Бабье лето, бабье лето.
На четвёртом курсе преподаватель, заведующий преддипломной практикой, сказал Мише:
Плохо учитесь. Не знаю, куда вас и направить.
В НИИ платили зарплату - тридцать четыре рубля пятьдесят копеек. Миша сидел за осциллографом и проверял исправность субблоков. Есть на экране импульс - субблок в шкаф, нет импульса - субблок в ящик. Не перепутать. Заведующий лабораторией сказал ему, что один субблок стоит пятьсот восемьдесят рублей. Никого не было в комнате, когда у Миши из одного субблока повалил дым. Он в ужасе отключил напряжение и сунул субблок в кучу неисправных.
Будучи в электронике дубом, Миша решил компенсировать это исполнительностью и добросовестностью, а в логических схемах начал постепенно разбираться, и однажды завлаб заметил:
Вырос практикант.
Мише доверили составлять логические схемы, и он исчерчивал миллиметровую бумагу лист за листом, стирал и чертил снова. Не нравилось отрываться от творчества и тащить неисправные субблоки в ремонт. Миша шёл через цех, где простыми рабочими работали его сверстники, и радовался, что он не стоит у станка, а сидит и мыслит, и казалось ему, что он выше их, и они ему завидуют. Выйдя из цеха, он сворачивал на протоптанную между сугробами тропинку. Тускло светило декабрьское солнце, и было скучно.
На одну из вечеринок Андрей привёл свою девушку, Лену, студентку какого-то института. В группе её ещё не видели. Он разрешил ей потанцевать с ребятами. Левой рукой Миша взял её пальцы, а правой коснулся её талии и вдруг ощутил себя так, как не ощущал никогда. Он попытался правой рукой приблизить Лену к себе - и не заметил сопротивления. По-особенному звучала песня битлов: «Оу, гёрл, гёрл!». Когда Миша ехал домой, он улыбался и, когда засыпал, улыбался тоже.
Вскоре группа пошла в турпоход, и Судариков пригласил Лену. На привале она села на рюкзак, и у Миши замерло сердце: Господи, ну ведь надо же… так сидеть! А косынка, а карие глаза!
Андрей возился с костром.
Миша взял два пустых ведра, и Лена сказала Мише:
Я тебе помогу.
На ней были брюки, и она постеснялась заходить в деревню, осталась во ржи. Миша принёс туда вёдра с водой, поставил их, сел рядом с Леной и увидел, что в её глазах смеётся дьяволёнок. И он обнял её.
Один из ребят сказал другому при Мише, что Лена - девушка Андрюши Сударикова. Но Мише было всё равно, плохо или хорошо Андрею, он не думал об этом. Группа топала километр за километром, и Миша первый и последний раз в жизни, строчку за строчкой складывал стихотворение: о том, как он ночью у открытого окна читает на чёрном небе имя Лены, а на соседнюю крышу вылез старенький месяц, сидит, слушает и разевает сонный рот. Мише расхотелось есть, он питался одной холодной водой, а в груди горело, горело. На ночёвке они пришли вдвоём к остаткам древнего городища, и Миша крикнул:
Эй, славяне! Не помешаем?
Славяне не возражали. Ночь была тёплой и звёздной. Лёжа на одеяле, Лена говорила Мише, как он ей дорог и нужен, и какое она испытывает блаженство и тоску. Свешивались над глазами травинки, а над травинками молчаливо мерцал бесконечный космос.
Они ездили в Загорск в Лавру, бродили по аллеям Сокольников, катались на речном трамвае. Миша не понимал классической музыки, Лена потащила его на концерт, и там он впервые открыл для себя, о чём Моцарт: о нём и Лене.
А потом было ноябрьское утро, гармошки играли и мокли под дождём и никак не смолкали в душе, когда Мишу и других новобранцев автобус вёз по Москве на Краснопресненскую пересылку. Автобус остановился, лейтенант разрешил сбегать за водкой, ребятам надо было добавить. Они надеялись через два года вернуться домой живыми, с целыми руками и ногами. Так и произошло, им повезло: до Афганистана ещё оставалось несколько лет.
В радисты? Недосыпать будете.
Эшелон проваливался в ночь, призывники прикасались висками к оконным стёклам, им два года казались вечностью, а восемнадцать улетали в прошлое. Растаяла Литва, переехали по мосту Неман, под колёса ложилась бывшая Восточная Пруссия, забывалось мелкое и глупое, вспоминались нужные слова, которые они потом срочно вышлют, и майор, начальник учебки, странно улыбнётся. Но они ещё не видели его, они только знали, что эшелон идёт на запад, что они будут солдатами и что им будет тоскливо без их девушек и женщин, они не знали, что будут считать дни, не знали, чем хороша учебка: в ней нет «стариков».
Вместе с Мишей ехали двое москвичей постарше. Один мечтал путешествовать и хотел использовать после службы полученную в армии специальность: пройтись по свету морским радистом. Другой сказал, что хорошо иметь средства, чтобы вообще не ходить на работу, где начальник вечно тобой недоволен, где коллеги язвят и где тебя окружают некрасивые женщины, замученные очередями и стиркой. Он увлекался живописью и добавил, что в жизни есть две стоящие вещи: творчество и секс.
Рота, подъём!
Сапоги-портянки. Шерстяные носки - нельзя. Свитер под гимнастёрку - нельзя. Ушанка ёрзает на стриженой голове. Впереди деревянные мишени. Очередь!
Молодец, товарищ Тавадзе!
Точки-тире, точки-тире. Семёрка:
Даай-даай-за-ку-рить.
Дневальный по роте назначается из солдат, он подчиняется дежурному по роте. Шинели равнять табуреткой, по казарме без швабры не перемещаться.
Строевым, с песней, запевает первый взвод, шагом… марш!
И пусть приёмники всегда настроены, и ключ сжимаем мы рукой, эх, мы, радисты, телеграфисты, морзянку льём в эфир рекой, эх, мы, радисты, телеграфисты, морзянку льём в эфир рекой.
Чёрного - сколько съешь, белого - один кусок.
Рота, отбой!
Кубковая система: выбывают «отбившиеся» за сорок секунд. Миша-то ещё ничего, дошёл до четвертьфинала - и всё, а его приятель, Славка из-под Брянска, продолжает «отбиваться». Славка на третий день в учебке заслужил благодарность от сержанта и вместо «Служу Советскому Союзу!» рявкнул перед строем: «Рад стараться!». У Славки одна цель: после дембеля заработать на мотоцикл и кататься с девчонкой. Если она его дождётся. Об автомобиле парень не мечтал. А до дембеля, как до Марса. Запрещалось под страхом наряда вне очереди держать в военных билетах «посторонние предметы». Сержант построил взвод, проверил, почти у каждого в военном билете оказалась фотография девушки. .
Попал на Дальний Запад. Зимний лес такой же, как под Москвой, только в нём чуть позже темнеет, да ещё нет в Союзе другого места, чтобы ближе Бреста была Варшава. В семь часов подъём, зарядка, холод, в восемь строевая подготовка. Декабрьская суббота, старшина командует, и рота в баню с песней. Потом будут фотокарточки, а на них сосны в снегу, и Миша, и Слава, но никогда… никогда уже не будет девятнадцать лет…
Миша поначалу переписывался с некоторыми ребятами из техникумовской группы, они учились в институтах или по другим причинам избежали призыва.
Лена писала Мише, что он в письмах искренен, как будто сам с собой разговаривает. Торопила с ответом: «Поговори сам с собой». И военный цензор читал: «Леночек, я сегодня первый раз заступаю в наряд по кухне, а сейчас пишу тебе письмо. Вокруг все тоже, как и я, пишут письма, а устав никто не учит». «Леночек, у меня здесь хороший друг Слава, он шлёт тебе привет. Наша служба проста. Вчера с незаряженным автоматом охранял важный объект - пункт квашения. Без тебя моя жизнь бессмысленна и пуста. Сегодня получил твоё письмо, очень хорошее. Ты меня люби. Кроме этой любви, ничего у меня нет». «Леночек, зачем высокие слова? Я просто тебя люблю. Вспомни, были с тобою вместе, ближе, чем были, уже не бывает. Помню смех твоих тёплых карих глаз. Я весь - чувство к тебе. Ночные часы тянутся, не навевая снов, я лежу, сцепив зубами губы, и одна только мысль: люблю тебя, слышишь?».
Весной Миша и Слава получили третий класс радиотелеграфиста, попали в одну и ту же часть и стали поочерёдно ходить на боевые дежурства. Постепенно росло число делавшихся раз в месяц зарубок на ремне, «дядькой» Миша сдал на второй класс и переехал с верхней койки на нижнюю. По вечерам у казармы зажигался фонарь, после ужина смотрели «А ну-ка, девушки!» или хоккей, затем наступала минута, когда дежурный по части старшина Малючков, сосчитав в темноте ноги на койках, уходил на КПП к авоське с закуской. Тогда на тумбочку влезал «салага» и объявлял с узбекским акцентом:
- «Старики»! До приказа осталось столько-то дней!
Снова набрав воздуха, он взывал:
День прошёл!
И стены содрогались:
Ну и … с ним!!!
Дневальные подкладывали под входную дверь алюминиевую миску и дремали спокойно, не то, что в дежурство молодого лейтенанта Смелявичуса, помнившего курсантское дневальство и способного влезть в казарму через окно.
Командиру роты, капитану Александру Опанасовичу Костенко, было за сорок, он имел лысину, маленькую квартиру, продуваемую сквозняками, и кличку Шурик. Ещё больной желудок. Боль иногда была такой, что на лице выступал пот. Когда при Шурике матерились офицеры, капитан морщился. Мише он говорил перед политподготовкой:
Вы ведь разбираетесь.
И посылал попилить дрова или поделать ещё что-нибудь хорошее.
На прибитой в ротной канцелярии описи «Стол - 1, стулья - 2, шкаф - 1, портрет - 1, урна - 1» Слава приписал карандашом: «Шурик - 1». А капитан не стирал. Он не считал ноги и не лазил в окна, но в его дежурства рота не провожала день, и никакие миски под дверью не валялись.
Как-то нужно было что-то сделать, послать куда-то. Увидел человека:
Воин! Воин!
Славка в ужасе шмыгнул за угол. Шурик сам себе, в раздумье:
Смылся…
А тем временем военный цензор читал: «Леночек, здесь пустота, знакомая до отвращения. А настоящее - дома, там, где ты… Есть ли в жизни такое, что дороже всего на свете? Может быть, это - то самое, то, что то ли было, то ли не было, то, что хочется перечувствовать заново. Может быть, это я сам и то, что ещё не сказал тебе. Может быть, это - ты, Леночек». Ответа не было, не было, не было. Миша не кричал: «Ответь мне!». Получалось, что ему всё равно, как она живёт, то есть получалась ложь.
Ему как-то приснилось, что День настал, он, отдав долги Родине, вернулся в свой город, скинул сапоги. И увидел постаревшую маму, друзей, немало преуспевших.
Чтобы не приходилось постоянно покручивать ручку настройки своего приёмника, Миша добивался строго одинаковой частоты передатчиков корреспондентов своей радиосети. Чуть ниже… ещё… стоп, чуть выше… хорошо. Следующий.
Дежурный по связи говорил ему:
Брось, всё равно всех на одну ниточку не посадишь.
Проверьте, - отвечал Миша.
Хотелось работать красиво.
Лучшей сменой была ночная, когда мало начальства и радиограмм. Давно спят солдаты, спят в Москве Лена, мама, Серёжа, бабушка. Спит весь мир. В радиосети тишина. Миша освобождал одно ухо, надевал вторую пару головных телефонов и включал второй приёмник. В эфире билась жизнь. Перебивая друг друга, женщины и мужчины пели, пели, пели на непонятных языках, и было ясно, что поют они о любви, не умолкая ни на минуту, словно боясь замолчать, словно опасаясь, что в возникшей тишине застучат ключами все военные радисты и утро не наступит. Голоса без акцента сообщали Мише: в его стране плохого столько, что дальше некуда. Голоса очень переживали и советовали внуку жестянщика Самуила Канторовича, как поправить дело. Жестянщик же уже полвека лежал в степной могиле с сердцем, пробитым за мечту о всемирной коммуне и за кровавое насаждение её, и не мог объяснить Мише мудрого Сталина, Чехословакию и Даманский. Скрипки, кларнеты, виолончели и клавесины старались рассказать Мише всё, что пережил композитор, но, слушая свою игру, инструменты сознавали, что у них не получается, и от этого они грустили, и тогда прикасались мелодией к глубине Мишиной души, и чувствовали это, и, ещё продолжая плакать, пробовали улыбаться.
Миша перелистывал прошлогодние письма Лены и находил слова «соскучилась», «жду». Щебетали птицы, и по залитому июньским солнцем лугу, улыбаясь, шёл навстречу юноше и девушке Моцарт в парике, пел и дирижировал правой рукой.
Подходила к концу смена, и Миша, проснувшись, смотрел на холодный осенний рассвет, на сыпавшийся мелкий град, когда Слава пришёл его сменить и принёс ему письмо от любимой. Миша прочитал и узнал, что он хороший парень, и ещё узнал, что Андрей… что Андрей, с которым когда-то так дружили… Андрей, который тоже «стариковал» где-то и ждал с друзьями приказа, будет целовать карие глаза, Андрей, а не он.
Жизнь состоит из потерь. Сначала потерял друга. Андрей, если можешь, прости.
Теперь потерял девушку.
Молодые кленочки ёжились, трясли красными замёрзшими ладошками. Ветер морщинил лужи и метался по городку, не находя выхода, срывал с берёз последнее золото и бросал под колёса машин, под ноги сонным, зябнущим солдатам, и было жаль и этих листьев, и этих ребят, и чёрт знает, чего ещё…
Леночек, Леночек… будь счастлив.
Брызнули по стеклу белые горошинки.
Миша и Слава дембеля. Миша пришёл домой в полпервого ночи. В шесть встал и, к восхищению бабушки, пошёл в парк бегать. Через день это бросил. Благодаря дип-лому техника-электрика (спасибо маме) в армии окопы не рыл, сидел в тепле. Но с него хватит техники. Влечёт историческая наука - всем наукам наука. Заполнил на дневном отделении анкету. Не еврей, да ещё после армии - как раз то, что нужно Коммунистической партии.
Проплиопитек, рамапитек, кроманьонец. История первобытного общества. Стадо - не общество. Быть ниже самого себя - не что иное, как невежество, а быть выше самого себя - не что иное, как мудрость. Тираны - незаурядные личности. Тираническая душа несчастна. В деспотическом государстве нет отечества. Все беды Афин от неповиновения властям и отсутствия единодушия. Людовик Кроткий, Карл Простоватый, Карл Плешивый, Генрих Птицелов. Преемники Христа должны быть бедны, как Апостолы. Мюнцер - крайний реалист. Всех господ, дворян и рыцарей следует ниспровергнуть и уничтожить, как неправильно растущие деревья в лесу. Росия - большая страна на севере, там народ простодушный и очень красивый, мужчины и женщины белы и белокуры. Халат, кафтан, сундук, деньга. Семён Гордый. Аввакум: «Не высокомудрствуй, а бойся!». В Америку за счастьем. Без западных земель не понять Америки. Все люди по природе равны. Пётр Великий. Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог. Всё, что лживо и фальшиво, правит всей страной, а что честно и правдиво - давится ногой. Как девятого числа нас нелёгкая несла что ко Зимнему дворцу, к самому Царю-отцу. Ленин хотел заменить Сталина. Троцким? Бухариным? Зиновьевым? Кем? Собственный дом в курортной зоне - капитал?
Девчачий факультет. Сколько красивых девушек! Они веселы, смеются, потому что молоды и состарятся очень нескоро. Одна сказала Мише:
Нам надо чаще встречаться.
А у него перед глазами другая. Мы с вами, читатель, знаем, кто.
Доцент Мария Климентьевна Истратова, войдя в аудиторию, садилась и закуривала. Начала знакомство так:
Даю вам курс, через год сдадите его мне обратно. Кто будет болтать - выгоню.
Болтать расхотелось, но не от этого, а от того, что неожиданно, совершенно неожиданно захотелось слушать. Истратова не читала по шпаргалке, а главное - не лгала. Она не несла набившую оскомину бодягу, а разговаривала со студентами на том языке, на котором разговаривали в министерствах и Совмине: о проблемах, о болячках страны. Ходила по рядам и у каждого спрашивала:
А ваше мнение?
И хуже всего было не наличие ошибочного, а отсутствие собственного мнения. Зачёт Мария Климентьевна начинала с того, что ставила зачёт, а потом подолгу беседовала с каждым. Она знала, что её любят и что кто-то стучит в партком: «Так нельзя вести занятия». Вскоре её сожрала опухоль. На прощании были немногие, остальные не знали: некролог был вывешен только после похорон. Незадолго перед этим, принимая экзамен, она погоняла Мишу по 1905 году и сказала:
У вас есть задатки. Чем хотите заниматься?
Чем… Он по вечерам сочинял коммунистические листовки против правящей бюрократии, и его влекло их расклеивать. Миша ответил:
Черносотенцами.
Истратова затянулась сигаретой, помолчала.
У вас будут проблемы с такой темой. Желаю успеха.
А то Миша не знал, что будут проблемы. Он думал: закон Ома один и тот же в любой стране, при любой власти. Следовательно, физика - это наука. Оценка Наполеона в СССР одна, во Франции другая. Оценка Сталина при Хрущёве одна, при Брежневе другая. Значит, история - это мифология, инструмент пропаганды и патриотического воспитания, всё, что угодно, только не наука.
Как-то он написал письмо и отвёз его на площадь Дзержинского. Сказал дежурному:
Хочу кое-что сообщить.
В комнате сидели двое в штатском. Одному, за столом, было лет пятьдесят, другому, у окна - лет тридцать. Миша вручил обвинительный акт государству. Старший предложил стул и принялся за чтение. Потом спросил:
Антисоветские анекдоты распространяете?
Сам сочиняю, - поправил Миша.
Перечисляйте центральные газеты, а я буду корректировать их названия.
Ну… «Правда», «Московская правда».
- «Враньё», «Московское враньё».
Младший посмотрел в пол. Мише почудилась улыбка на его губах.
- «Красная звезда», - хмуро продолжил старший.
Гэбэшник дочитывал письмо.
Довольно сумбурно, - заключил он и прочёл вслух: «Я считаю неотъемлемым правом гражданина говорить всё, что он считает нужным, о политическом строе своей страны. Очень хочется учиться, особенно политической экономии социализма, после чего стать или защитником существующего строя, или его противником, причём неизвестно, в какой форме».
Как в последнем слове на суде, - обратился гэбэшник к коллеге.
Нет, - возразил младший, - как перед расстрелом.
Старший повернулся к Мише:
Дайте паспорт.
Сделал выписки и вернул.
Мы вас брать не будем. Зачем вы нам нужны? Учитесь, чему хотите, а в дебри не лезьте.
Только и можешь сказать: в дебри не лезьте, - с тоской подумал Миша, выйдя на улицу. Они не приняли его всерьёз. Записали фамилию и адрес. Чёрт с ними. В конце концов, он на свободе. Он вдруг понял, что ему теперь нечем наполнить свою жизнь. Но у него есть Воспоминание. Счастье такое чудное: чем дальше оно, тем видней.
Близился вечер. Люди шли навстречу и обгоняли, у них были другие заботы. Мише было некуда спешить. Ранние клейкие листочки в сквере у Политехнического музея сияли яркой зеленью. Газоны тонули в жёлтых одуванчиках. Сморщенные старички и пацаны в клёшах вылезли из душных квартир и вдыхали божественный воздух весны. На Солянке молодая женщина продавала букетики майского цветка купавки. Вот и закончилась Мишина юность. Он ещё не знает, что боль пройдёт; можно было бы об этом поподробнее. Но лучше мы, как писал Александр Сергеевич Пушкин, здесь нашего героя оставим, надолго… навсегда.